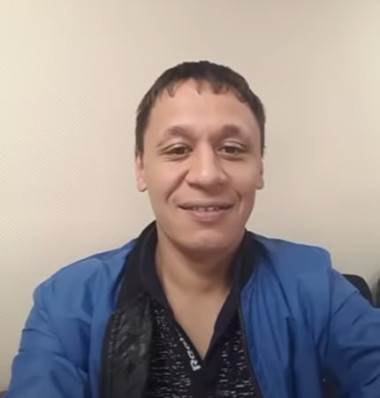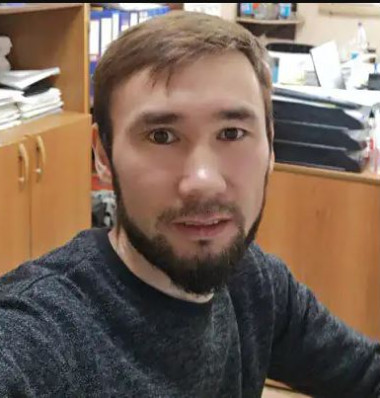Досье

В связи с протестами против приговора Фаилю Алсынову, оппозиционному активисту и одному из лидеров башкирского национального движения, произошедшими в январе 2024 года в городе Баймак (Башкортостан), привлекаются к уголовной ответственности не менее 78 человек. 48 из них к настоящему моменту приговорены к различным срокам лишения свободы, одному назначены принудительные меры медицинского характера. Дела остальных рассматриваются судами или ожидают рассмотрения. Большинство из них обвиняются или осуждены по ч. 2 ст. 212 УК РФ («Участие в массовых беспорядках, сопровождавшихся насилием, применением предметов, представляющих опасность для окружающих, а также оказанием вооружённого сопротивления представителю власти») и ч. 1 ст. 318 УК РФ («Применение насилия, не опасного для жизни или здоровья, либо угроза применения насилия в отношении представителя власти или его близких в связи с исполнением им своих должностных обязанностей»), 10 фигурантам была вменена ч. 1 ст. 212 УК РФ («Организация массовых беспорядков, сопровождавшихся насилием, применением предметов, представляющих опасность для окружающих, а также оказанием вооруженного сопротивления представителю власти»).
Полное описание
Обвинение связано с событиями января 2024 года в Республике Башкортостан, которые стали одной из самых массовых акций протеста в стране с момента начала полномасштабного вторжения России в Украину. 15 января 2024 года тысячи людей собрались у здания суда в городе Баймаке, где должен был быть вынесен приговор известному в республике оппозиционному активисту Фаилю Алсынову, защитнику шихана Куштау и одному из лидеров башкирского национального движения. Его обвинили в возбуждении межнациональной ненависти и вражды по ст. 282 УК РФ за речь, произнесённую в апреле 2023 года на народном сходе против разработки карьера для золотодобычи в селе Ишмурзино. В этой речи привлечённый следствием эксперт обнаружил «признаки унижения представителей других национальностей», а следствие и суд — признаки ненависти по отношению к армянам, жителям Кавказа и Центральной Азии. Наш проект признал Фаиля Алсынова (по паспорту — Алчинов) политзаключённым.
Многие люди приехали в Баймак 15 января из других сёл и городов республики, однако судья неожиданно перенесла оглашение приговора на 17 января. Утром этого дня несколько активистов были задержаны, однако, по разным подсчётам, от 2 до 10 тысяч человек вновь собрались у здания суда, в этот раз на месте событий было больше и полицейских. 17 января судья вынесла приговор Алсынову — 4 года лишения свободы, при этом наказание оказалось более суровым, чем требовал государственный обвинитель: вместо колонии-поселения оппозиционеру назначили общий режим. Кто-то пустил слух, что в 15 часов будет пересмотр дела, об этом сообщали тогда журналисты с места событий.
Фаиль Алсынов позже в письме из СИЗО написал, что был готов выступить перед людьми и попросить их разойтись. Такая договорённость, по его словам, была между ним и дежурившими в здании полицейскими, но позже те якобы передумали. Сотрудники ОМОН вышли из автомобилей и стали разгонять и задерживать собравшихся, те кричали «позор!» и «долой Хабирова!» (глава Башкортостана), в полицию полетели комья снега. Силовики применили дубинки, слезоточивый газ, свето-шумовые гранаты. Официально было заявлено о семи пострадавших сотрудниках правоохранительных органов, в том числе начальнике УМВД по городу Стерлитамаку Рустаме Асанове — «неустановленные лица» применили в отношении него «насилие, не опасное для его жизни и здоровья, нанеся ему множество ударов руками и ногами по голове и по телу, причинив телесные повреждения и физическую боль». Точных данных о числе пострадавших гражданских лиц нет, за медицинской помощью обратились от двадцати до сорока человек, в основном — с жалобами на резь в глазах после использования силовиками слезоточивого газа.
После Баймака протесты продолжились в Уфе, где 19 января 2024 года люди снова вышли на улицу: на площади Салавата Юлаева прошёл сход, который был разогнан силовиками. Собравшиеся на этот раз не скандировали лозунгов — они пели песни на башкирском языке и водили хороводы, а полицейские поначалу просто наблюдали за происходящим, а затем вновь перешли к задержаниям. Дела против «участников» и «организаторов» беспорядков, а также тех, кого обвинили в применении насилия к полицейским, объединённые впоследствии в одно уголовное дело, которое стали называть «Баймакским делом».
Как следует из документов следствия, первое дело по ст. 212 УК РФ о массовых беспорядках и ст. 318 УК РФ о применении насилия в отношении представителя власти было возбуждено старшим следователем первого отдела по расследованию особо важных дел СУ СК РФ по Башкортостану Ильдаром Ишбулатовым уже 17 января в 15:30, когда Фаиля Алсынова ещё даже не увезли из Баймакского суда. Второе дело — только по ст. 318 УК РФ о применении насилия против силовиков — появилось через три дня, 20 января. В его материалах говорится, что участники схода у здания Баймакского суда напали на заместителя командира взвода отдельной роты патрульно-постовой службы ОМВД по городу Октябрьский Осипова и полицейского этой же роты Арусланова. Помимо этих двоих травмы получили «не менее шести» сотрудников полиции и Росгвардии, в которых метали «крупные куски замёрзшего снега» (впоследствии число пострадавших, по версии обвинения, сотрудников правоохранительных органов возросло до 52 человек).
Кроме того, обвиняемым вменяется повреждение служебных автомобилей, принадлежащих правоохранительным органам, «брошенными предметами и путём применения физической силы» на общую сумму 224 200 рублей.
Для расследования дела ввиду его особой важности была создана следственная группа из 33 следователей из разных городов РФ под руководством полковника юстиции Игоря Хованского. 22 января 2024 года оба дела были объединены в одно производство и переданы для ведения предварительного расследования в центральный аппарат Следственного Комитета РФ.
Следствие считает организатором «массовых беспорядков» одного из основателей организации «Башкорт», запрещённой в РФ в 2020 году, оппозиционера Руслана Габбасова, который уехал из страны в конце 2021 года, и «иных неустановленных лиц». В России против Габбасова возбудили уголовные дела по нескольким статьям УК. Согласно ходатайствам следствия об аресте участников схода, живущий в Литве Габбасов, «реализуя свой преступный умысел», использовал Youtube-аккаунт Ruslan Gabbasov и Telegram-канал «Тот самый из Башкорт», чтобы призывать жителей Башкортостана «к участию в массовых беспорядках, сопряжённых с воспрепятствованием работе суда, перекрытием дорог в Баймаке и неисполнением требований полицейских».
«При этом неограниченному кругу лиц из числа пользователей ЮТуб и Телеграмм предоставлялась возможность комментирования публикаций без какой-либо цензуры к комментариям, возбуждающим у лиц их просматривающих решимость участвовать в организации массовых акций протеста, с последующим их перерастанием в массовые беспорядки».
Контекст появления уголовного дела
Российские власти, поддерживающие и пропагандирующие идею «русского мира», с большой тревогой относятся к любым протестным настроениям в национальных регионах. Одним из них на протяжении длительного времени является Республика Башкортостан, где в последние годы имели место многочисленные проявления протеста. Так в 2017 году прошли протесты против отмены обязательного изучения башкирского языка. В 2020 году массовые акции против начала добычи полезных ископаемых и вырубки леса на шихане Куштау не только всколыхнули общественное мнение, но и оказались результативными: гору удалось отстоять, хоть активисты, выступавшие в защиту памятника природы, столкнулись с преследованиями. Следует отметить, что протестующие выступали не только в защиту природы, но и против социальной несправедливости: экоактивисты выдвинули претензию официальным властям из-за того, что местные предприятия и землю отдают «московским лицам», не заинтересованным в развитии региона.
«На карьерах работают приезжие, а местное население вынуждено уезжать на заработки в другие регионы. Ну, а те, кто приезжают к нам, подкупают местных чиновников», — утверждал в ноябре 2018 года Алсынов.
В 2021 году жители республики вновь вышли на народный сход — в защиту экоактивиста Ильдара Юмагулова, на которого напали неизвестные. В 2023-м состоялся очередной народный сход — на этот раз против геологоразведки горы Ирендык и разработки карьера на территории села Ишмурзино. К экологическим или национальным лозунгам снова добавлялись социальные — недовольство безработицей и низкими зарплатами.
К моменту вынесения приговора Фаилю Алсынову вовсю шла развязанная режимом Путина война против Украины, во внутренней политике был взят курс на полный запрет публичных мероприятий, на расправы с несогласными, на устрашение общества. На этом фоне гражданские протесты в Башкортостане, пусть и не носившие антивоенного и непосредственно политического характера, всё больше раздражали как региональные, так и федеральные власти: они становились едва ли не самыми массовыми в стране с момента начала полномасштабного вторжения России в Украину, диссонировали с общей ситуацией по стране и могли подавать «дурной пример» активистам в других регионах.
В такой ситуации власти решили использовать башкирский национализм — возможно, действительно играющий определённую роль в выступлениях за национальную самобытность или экологию, — как повод для компрометации целей и методов протестующих. Уголовное дело против Фаиля Алсынова, участника большинства протестных мероприятий, в том числе в защиту Куштау, возбудили по требованию главы Башкортостана Радия Хабирова. Поводом стали высказывания Алсынова, сделанные на протестной акции в апреле 2023 года. В своей речи на башкирском языке он, помимо прочего, сказал, что золотодобыча негативно сказывается на регионе, так как привлекает внешнюю рабочую силу, вытесняя местное население, а после выработки месторождения остаются только заброшенные карьеры и покинутые деревни. Говоря о том, что башкирам некуда переселяться из своего дома, Башкортостана, Алсынов, согласно переводу, сказал: «армяне уедут на свою родину, “кара халык” — к себе, русские — в свою Рязань, татары — в свой Татарстан», «Мы не сможем переселиться, у нас нет другого дома, наш дом тут!», «Армяне отбирают наши земли; говорю, конечно, в кавычках — там не только армяне, остальные тоже».
После жалобы Радия Хабирова УМВД Башкортостана начало проверку, в частности, в ведомственном Экспертно-криминалистическом центре (ЭКЦ) была проведена лингвистическая экспертиза речи Алсынова, эксперты усмотрели в его выступлении признаки унижения представителей других национальностей. Они перевели выражение «кара халык» как «чёрный народ» и указали, что «значение словосочетания соответствует значению слов ”хачи”, ”чурки”, ”черномазые”, а также что это «общее обозначение народов Кавказа и Средней Азии». На этом основании Фаиля Алсынова обвинили в разжигании межнациональной вражды и приговорили к 4 годам лишения свободы. Сам Алсынов пояснял, что его речь перевели неправильно, и под «кара халык» он имел в виду не народы Кавказа, а «простых людей». В пользу этой трактовки свидетельствует то, что поддерживающие Алсынова люди скандировали около здания суда «Без кара халык! Без кара халык!», что означает «Мы — чёрный люд [простые люди]», а также некоторые устраивали одиночные пикеты с этой фразой.
Протесты в день вынесения приговора Алсынову стали поводом к очередному витку репрессий против башкир, пришедших поддержать подсудимого. По количеству обвиняемых Баймакское дело встало в один ряд с такими как Болотное дело, Московское дело, Дворцовое дело, Ингушское дело, — и даже превзошло большинство из их.
Обстоятельства преследования
Обвинения по уголовным делам в участии в массовых беспорядках и в применении насилия к сотрудникам полиции предъявлены десяткам граждан, десяти — в организации массовых беспорядков, к административной ответственности привлечены около 500 человек. Большинство из них — отцы и единственные кормильцы многодетных семей.
Юрист «ОВД-Инфо» Ева Левенберг говорит, что к концу мая 2024 года стало известно о 82 фигурантах Баймакского дела: среди них только три женщины, остальные — мужчины. Всех фигурантов обвиняют по статье о массовых беспорядках (ст. 212 УК), но некоторым участникам дополнительно вменяют ещё и применение насилия в отношении представителя власти (ч. 1 ст. 318 УК). 71 человек, по словам Левенберг, на тот момент находились в СИЗО, пятеро в розыске, один — под домашним арестом, где находились ещё трое — было неизвестно, двое — погибли после проведения с ними следственных действий. Впрочем, по информации адвокатов, которые работают с «ОВД-Инфо», задержания людей в Башкортостане продолжались ещё несколько месяцев, а реальное число фигурантов Баймакского уголовного дела достигло около 100 человек. В настоящее время нам известно о 82 из них и мы продолжаем собирать информацию о деле.
Правозащитники называют «Баймакское дело» самым массовым уголовным делом в отношении участников акций протеста в современной России. «Раньше мы объединяли уголовные дела в сущности — например, “Санитарное”, “Дворцовое дело” или “Антивоенное дело”, — потому что так о преследованиях было проще рассказывать. Но с правовой точки зрения это были отдельные уголовные дела по разным поводам», — рассказал изданию «Холод» пресс-секретарь «ОВД-Инфо» Дмитрий Анисимов. — «Здесь же мы говорим об одном гигантском уголовном деле против почти сотни человек. Это беспрецедентная ситуация для современной России».
Помимо возбуждённых в отношении участников протестов в башкортостанском Баймаке уголовных дел, силовики, по данным правозащитников, привлекли около 500 человек к административной ответственности. В большинстве случаев граждан обвиняли в том, что они создавали помехи снегоуборочной технике или мешали проходу жителям Баймака.
Задержания начались спустя несколько дней после народного схода у суда в Баймаке 17 января, основная их часть длилась больше месяца. Людей забирали из домов или после «проверки документов» на дорогах. По словам очевидцев, чаще всего действовали росгвардейцы во всей амуниции. В первое время они применяли тактику обмана: говорили подозреваемым, что их оштрафуют за несанкционированный митинг и отпустят. Несколько человек сначала отбыли административные аресты, после чего узнали, что являются фигурантами уголовного дела по ст. 212 УК РФ. Судя по действиям самих обвиняемых, многие не ожидали, что за ними придут. После акций в Баймаке они продолжили привычную жизнь, в то время как огромная следственная группа методично отсматривала видеозаписи с места событий, выделяя и привлекая к ответственности наиболее активных участников схода возле суда, либо тех, кто им казался таковыми.
События, связанные с задержаниями подозреваемых в участии в массовых беспорядках, их избиениями и странными смертями, вызывают большое беспокойство. Родственники некоторых задержанных рассказывали о жестоких избиениях. Обвиняемого по делу о массовых беспорядках Дима Давлеткильдина 22 января 2024 года госпитализировали из СИЗО в больницу. Во ФСИН признали, что в изолятор Давлеткильдин поступил с гематомами, ушибами и ссадинами, а после врачи зафиксировали у него перелом поперечного отростка в поясничном отделе позвоночника. Родственники считают, что он был избит силовиками. А вечером 26 января 2024 года стало известно, что ещё один из задержанных в связи с протестами, 37-летний Рифат Даутов, погиб. По словам родственников, он не выходил ни на один из митингов, но днём 19 января находился неподалёку от площади Салавата Юлаева в Уфе. Почти через неделю — 25 января — сотрудники ОМОНа задержали Даутова и увезли в неизвестном направлении. На следующий день к родителям Даутова в селе Юмагузино пришёл представитель сельсовета и велел им приехать в Уфу на опознание тела. По неофициальным сообщениям, он умер в автозаке после задержания. Впоследствии провластные каналы распространили информацию об алкогольном отравлении, однако родственники и знакомые Даутова сообщили, что он не употреблял алкоголь.
Впоследствии по запросу приглашённого ими адвоката была проведена независимая экспертиза, из заключения которой следовало, что смерть 37-летнего мужчины наступила в результате внутренней кровопотери после полученных телесных повреждений, пишут Idel.Реалии. Эксперт проводил в том числе «детальное изучение фотографий тела Рифата Даутова». В документе отмечено, что «общее число достоверно дифференцируемых признаков самостоятельного травматического воздействия составило не менее 48». Но, как отмечается, фактическое число ударов может существенно превышать это число, так как «многие кровоподтёки сливаются в сплошные поля». По мнению эксперта, общая площадь «поражения ударным воздействием» составила не менее 30 процентов поверхности тела погибшего и с учётом толщины гематом объём внутренней кровопотери составил не менее 5,19 литра. Он отметил, что потеря Даутовым такого объема крови в результате внутреннего кровотечения «должна была занять около пяти часов» до наступления смерти, произошедшей, как следует из документов, около 5 утра 26 января. Исходя из этого, специалист пришёл к выводу, что Даутов был избит в промежутке между его задержанием и доставкой в отделение полиции по Баймакскому району.
А в середине февраля 2024 года в Башкортостане скончался Минияр Байгускаров. По сообщениям СМИ мужчина покончил с собой из-за прессинга со стороны силовиков. Он оставил предсмертную записку, содержание которой неизвестно. На условиях анонимности один из его родственников рассказал, что Байгускаров также был избит полицейскими, к которым пришёл для допроса.
Все обвиняемые за редким исключением были помещены в следственные изоляторы. Затем дела привлечённых к уголовной ответственности и водворённых в СИЗО людей передали для рассмотрения в суды различных регионов, возможно — для того, чтобы исключить повторение событий у Баймакского суда, когда земляки арестованного массово пришли туда, чтоб выразить своё несогласие с процессом и приговором.
Следствие инкриминирует большинству обвиняемых «участие в массовых беспорядках, сопровождавшихся насилием, применением предметов, представляющих опасность для окружающих, а также оказанием вооружённого сопротивления представителям власти» по ч. 2 ст. 212 УК РФ. Кроме того, действия некоторых из них квалифицируются по ч. 3 ст. 212 УК РФ — как призывы к массовым беспорядкам.
Как правило, обвинение в участии в массовых беспорядках по ч. 2 ст. 212 УК РФ стандартно сводится к следующему: «Ишкуватов, Ишмуратов и Кульмухаметов и ещё не менее 69 участников массовых беспорядков приняли участие в спровоцированных ими массовых беспорядках, сопровождающихся насилием, погромами, повреждением служебного автотранспорта, применением физической силы для попыток прорыва оцепления, состоящего из сотрудников полиции и военнослужащих Росгвардии, <…> забрасывали их кусками льда, обледеневшего снега, поленьями, камнями и другими предметами, <…> наносили множественные удары руками и ногами по различным частям тела представителей власти, бросали в их сторону дымовые шашки со слезоточивым газом, причинив не менее 55 сотрудникам полиции и военнослужащим Росгвардии физическую боль и телесные повреждения различной степени тяжести».
Доказательствами по их делам являются видеозаписи событий у суда, в частности — моменты метания снежков в сторону полиции, показания свидетелей, включая засекреченных, признательные показания обвиняемых на предварительном следствии, заключения экспертиз, включая метеорологическую, из которых следует, что снег в день событий был твёрдым, вследствие чего его брошенные куски могли причинить силовикам травмы и физические страдания.
Несколько человек обвиняются в организации массовых беспорядков по ч. 1 ст. 212 УК РФ. Стандартная формулировка обвинения в этом случае такова: «Установлено, что Руслан Габбасов, постоянно проживающий на территории Литовской Республики, [Юлай] Аюпов, [Ильяс] Байгускаров, [Артур] Мухаметов и неустановленные лица, действуя по мотивам политической ненависти к существующему государственному устройству России, желая дестабилизировать общественно-политическую обстановку в РФ, <…> объединились в организованную группу в целях организации массовых беспорядков в Баймакском районе под предлогом поддержки Алчинова в день вынесения приговора».
По версии следствия, в период с 15 по 17 января 2024 года они «обеспечили на подконтрольном им канале YouTube, а также в публичных каналах в мессенджере Telegram [публикацию] сообщений, призывающих собраться жителей Баймакского и иных близлежащих районов РБ 17.01.2024 на несанкционированный митинг возле Баймакского районного суда РБ».
По версии следствия, «Аюпов, Байгускаров, Мухаметов в целях достижения задуманного в период до 17.01.2024 приискали из числа жителей РБ, не согласных с привлечением Алчинова к уголовной ответственности, [Ахмета] Якупова, [Закира] Ахмедина, [Самата] Давлетова, [Салавата] Елкибаева, [Даниса] Гайсина, [Айнура] Хусаинова и [Альфинур] Рахматуллину, которым <…> предложили принять участие в организации массовых беспорядков возле здания Баймакского районного суда <…> путём координации граждан, собравшихся на несанкционированный митинг».
После оглашения приговора Алсынову они, как считает следствие, «должны были своим поведением и призывами спровоцировать участников несанкционированного митинга к участию в массовых беспорядках, применению насилия в отношении представителей власти, а также обеспечивать руководство действиями толпы».
Для доказывания вины этих фигурантов следствие использовало переписку и объявления о предстоящем суде на публичных Интернет-площадках, а также показания засекреченных свидетелей. Они прозвучали в суде над Илшатом Ульябаевым. Как пишет Idel.Реалии, согласно показаниям засекреченного свидетеля под псевдонимом «Мустафин Ильдар Айратович», Самат Давлетов давал указания о перекрытии ворот и дороги из здания суда в случае заключения Фаиля Алсынова под стражу, чтобы не дать сотрудникам полиции его увезти. Этот же свидетель заявил, что «по указанию Давлетова протестующие перекрыли дорогу сотрудникам полиции из Сибая, препятствуя им соединиться с другими сотрудниками полиции». В то же время другой засекреченный свидетель — «Якупов Вадим Галиевич» — говорил, что такие указания давал Ильяс Байгускаров. «Они [сотрудники полиции из Сибая] находились у магазина, расположенного напротив главного входа в суд, — отмечал «Якупов». — В это время я видел Байгускарова Ильяса, который призывал людей подойти ближе к сотрудникам из Сибая, перекрыть им дорогу, чтобы они не смогли соединиться с другими сотрудниками полиции, которые находились у здания суда». «Якупов» также заявил: «Я слышал, что Давлетов Самат давал указания молодым людям перейти с площади сбоку суда, где расположены ворота, чтобы перекрыть дорогу и выезд из суда в случае заключения Алсынова под стражу, <…> видел, что Давлетов провоцирует людей, даёт им указания на оказание сопротивления сотрудникам полиции».
Ещё части обвиняемых предъявлены обвинения по ч. 1 ст. 318 УК РФ — применение насилия, не опасного для жизни или здоровья, в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей. В похожих друг на друга процессуальных документах разных фигурантов эти действия описываются следующим образом:
«…действуя совместно с иными участниками массовых беспорядков, находясь у здания суда, 17.01.2024, в период с 09 часов 54 минут до 16 часов 30 минут, осознавая, что одетые в форменное обмундирование сотрудники полиции и военнослужащие Росгвардии являются представителями власти и исполняют свои должностные обязанности по охране общественного порядка и обеспечению общественной безопасности в месте проведения несанкционированного митинга, игнорируя их законные требования о прекращении противоправных действий, сопровождая свои действия насилием, бросили в сторону сотрудников полиции и Росгвардии, а также в служебные транспортные средства приисканные на месте предметы: каждый от одного до шести кусков льда, обледеневшего снега, поленьев, камней и других предметов, представляющих опасность для окружающих, дымовые шашки со слезоточивым газом, либо нанесли множественные удары руками и ногами по различным частям тела представителей власти, а также возвели из комьев спрессованного снега баррикады для предотвращения выезда служебного автотранспорта Управления Росгвардии по Челябинской области, сотрудники которого обеспечивали конвоирование осужденного Алчинова Ф.Ф. из здания суда, воспрепятствовав тем самым исполнению ими своих служебных обязанностей». (из обвинительного заключения по делу Айтугана Малабаева, Азата Мирзина, Даниса Узянбаева, Фатиха Ахметшина, Венера Яубасарова и Вилюра Карачурина).
Первым и до сих пор единственным обвиняемым, которому (помимо ч. 2 ст. 212 УК РФ) была вменена ч. 2 той же ст. 318 УК РФ — применение насилия, опасного для жизни или здоровья в отношении полицейских — стал фермер Илшат Ульябаев.
По версии обвинения, Ульябаев «подбежал к поваленному на землю другими протестующими начальнику полиции Стерлитамака подполковнику [Рустаму] Асанову <…> и с разбега нанёс ему удар ногой в область головы, после чего нанёс по голове ещё не менее одного удара ногой и не менее одного удара рукой, причинив “лёгкий вред здоровью»». Илшат Ульябаев в суде признал свою вину и попросил прощения «у сотрудников правоохранительных органов, общества и государства». В частности, Ульябаев признался в том, что нанёс лежащему полицейскому удары руками и ногами: «Обстоятельства, изложенные в обвинении, я подтверждаю, а именно — участие в массовых беспорядках 17 января, также в применении насилия по отношению к сотрудникам полиции; точнее — нанесению ударов рукой и ногой в область головы Асанову Рустаму, который был защищён защитным шлемом с опущенным стеклом. Сколько ударов нанёс, я не помню ввиду быстрого развития событий. О нанесении ударов я ни с кем не договаривался», — сказал он в суде. Кроме того, в показаниях на предварительном следствии он утверждал, что видел людей с рациями в толпе у здания суда.
Адвокаты и правозащитники полагают, что, с учётом признания Ульябаевым вины, именно это дело было рассмотрено первым для того, чтоб создать прецедент и зафиксировать как наличие массовых беспорядков, так и факт применения насилия к полицейским, что можно будет использовать в судах при доказывании вины других фигурантов. Возможно, по той же причине это дело было выделено в отдельное производство.
Это актуально для следствия ещё и потому, что, в отличие от Ульябаева, значительная часть обвиняемых на стадии предварительного расследования не признаёт своей вины во вменённых преступлениях. Так, не признаёт себя виновным 61-летний Ахмет Якупов, популяризатор и исполнитель башкирских песен. Не признаёт свою вину и Альберт Тагиров, который обвиняется в том, что подошёл к одному из сотрудников полиции УМВД Уфы, «схватил его руками за ногу и повалил на землю, в результате чего потерпевший ударился головой». Также Тагиров, по версии следствия, «нанёс не менее двух ударов ногой и не менее одного удара рукой в противоударный щит» одному из сотрудников управления Росгвардии по РБ. При этом на всех допросах с самого начала следствия Тагиров свою вину отрицает полностью и заявляет: «Я в столкновениях не участвовал, каких-либо неправомерных действий по отношению к сотрудникам полиции не предпринимал, кусками снега и льда в сторону сотрудников полиции не кидал, за их форменное обмундирование не хватался, их шлемы не вырывал, своими руками и ногами телесные повреждения им не наносил, поленом в их сторону не кидался. Организатором я не был, никого участвовать там не просил и не призывал к каким-либо противоправным действиям».
Не признавал своей вины Айтуган Китиков, которого обвиняли в том, что он толкнул сотрудника полиции и нанёс ему не менее двух ударов, а также бросил в него шлем. Китиков рассказывал, что когда полицейский начал падать, он выставил руки, чтобы тот не упал на него, а самого Китикова не затоптала толпа. Когда с полицейского слетел шлем, Китиков его подобрал и хотел вернуть. Из-за скопления людей просто отдать шлем было невозможно, поэтому Айтуган кинул его в руки полицейскому.
Шафкат Ульмасбаев признавал, что действительно приехал 17 января к Баймакскому суду на приговор Алсынову, но ничего в силовиков не бросал и не дрался с ними, а также не препятствовал движению автобуса, в чём его обвиняли. По версии обвинения, Ульмасбаев «залезал на бампер автобуса, пытался забить пенопластом выхлопную трубу, т.е. своими действиями препятствовал движению автобуса, который находился в заведённом состоянии и не мог уехать из-за толпы». Обвиняемый пояснял, что, находясь сзади автобуса, он не мог препятствовать его движению вперёд, выхлопную трубу ничем не забивал, на предъявленной фотографии он закрывает лицо от дыма трубы, доказательства предъявления ему требований сотрудников полиции в материалах дела отсутствуют. Также Ульмасбаева обвиняли в том, что он «нанёс не менее одного удара рукой в область задней поверхности шеи полицейского».
Другие обвиняемые признают вину частично, отрицая своё участие в «массовых беспорядках» и умысел на применение насилия к сотрудникам правоохранительных органов. Так, согласно показаниям Даниса Узянбаева, обвиняемого по ч. 2 ст. 212 УК РФ и ч. 1 ст. 318 УК РФ, «вину в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 212 УК РФ он не признаёт, поскольку участия в массовых беспорядках не принимал, находился возле Баймакского районного суда 17.01.2024 проездом, ни с кем ни о чём не договаривался, остановился там, так как там была перекрыта дорога, увидел толпу людей возле Баймакского районного суда, в связи с чем стало интересно посмотреть, что там происходит. Был там с мамой <…> Признаёт обвинение в части совершения преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 318 УК РФ, его совершил только из-за того, что находясь там с мамой, кто-то из сотрудников правоохранительных органов распылил слезоточивый газ, который попал маме в глаза, в связи с чем рассердился, поднял с земли комок снега, которым бросил в сторону сотрудников правоохранительных органов. Это он сделал не в целях поддержки кого-либо из толпы людей, а из-за внезапно сложившихся неприязненных отношений к сотрудникам, поскольку от их действий его маме было больно глазам. Каких-либо иных действий не совершал».
Другие обвиняемые указывали, что были несогласны с действиями сотрудников полиции в отношении собравшихся и либо бросали рыхлый снег, однако ни в кого не попали, либо пытались оградить других от созданной полицейскими давки. Ещё часть обвиняемых, изначально дав признательные показания по всем инкриминируемым им статьям, впоследствии от этих показаний отказалась.
Первый заместитель Председателя Следственного комитета РФ, генерал-полковник юстиции Кабурнеев Эдуард Валерьевич для расследования «Баймакского дела» сформировал следственную группу в составе руководителя группы, следователя по особо важным делам третьего следственного отдела управления по расследованию преступлений против личности и общественной безопасности Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации (3 СО УПРПЛОБ ГСУ СК РФ) полковника юстиции Хованского Игоря Николаевича, следователей Малых Георгия Владимировича, Тарабухина Александра Анатольевича, Белова Андрея Владимировича, Зайцева Сергея Викторовича, Карипова Ильгиза Рамилевича, Кузнецова Дмитрия Сергеевича, Тазериянова Тимура Фидаиловича, Шлегина Станислава Сергеевича, Свистуна Антона Дмитриевича, Ситникова Владимира Владиславовича, Ишбулатова Ильдара Салимовича, Каримова Альмира Филаритовича, Белякова Антона Сергеевича, Каримовой Гузалии Раисовны, Григорьева Антона Юрьевича, Панфилова Дениса Олеговича, Габдрахманова Фадиса Фаузиловича, Хаматова Альберта Робертовича, Данилова Алексея Андреевича, Иргалина Рамиля Равилевича, Сайфуллина Дмитрия Руслановича, Бастанова Радмира Рафкатовича, Сулеймановой Айгуль Рамилевны, Уразгильдина Иделя Халиловича, Абдуллина Максима Айдаровича, Янгиреева Самата Маратовича, Тихоновой Екатерины Ильиничны, Мельникова Дмитрия Евгеньевича, Чупина Аркадия Юрьевича, Хамидуллина Рината Салаватовича, Сабирова Артура Рустамовича, Коровиной Анастасии Евгеньевны.
Для проведения судебных процессов уголовные дела в отношении групп обвиняемых, по несколько человек, были направлены в суды разных городов. Фигурантов событий судят в Тольятти, Ижевске, Оренбурге, Самаре и Орске.
Как мы указывали ранее, первый приговор, по ч. 2 ст. 318 и ч. 2 ст. 212 УК РФ, был вынесен Илшату Ульябаеву. 18 июля 2024 года судья Ленинского районного судом города Орска Оренбургской области Филатов Александр Игоревич приговорил его к 5 годам лишения свободы в колонии общего режима. Государственное обвинение требовало для него 10 лет лишения свободы. 14 января 2025 года Оренбургский областной суд по итогам апелляционного рассмотрения оставил приговор без изменения.
5 декабря 2024 года в Центральном районном суде Тольятти в Самарской области были вынесены приговоры Халиду Ишкуватову, Ильфату Ишмуратову и Закиру Кульмухаметову. Всех их признали виновными по ч. 2 ст. 212 УК РФ и ч. 1 ст. 318 УК РФ. Судья Бегунова Татьяна Игоревна приговорила Ишкуватова к 5 годам 6 месяцам лишения свободы, Ишмуратова и Кульмухаметова — к 4 годам 6 месяцам каждого. Всем назначено отбывание наказания в колонии общего режима. Позиция осуждённых по поводу их виновности неизвестна. 15 апреля 2025 года Самарский областной суд по итогам апелляционного рассмотрения жалоб утвердил сроки лишения свободы осуждённым, но внёс изменения в приговор, подробности решения неизвестны.
24 декабря 2024 года судья Устиновского районного суда Ижевска Злобин Николай Викторович вынес приговор Ильнару Асылгужину, Айгизу Ишмурзину, Рафилу Утябаеву, Фануру Хажину и Фангизу Шарифгалееву, признав их виновными по ч. 2 ст. 212 УК РФ и ч. 1 ст. 318 УК РФ. Государственное обвинение запрашивало по 10 лет лишения свободы каждому из них. Суд приговорил Ильнара Асылгужина, Айгиза Ишмурзина и Рафила Утябаева к 8 годам 6 месяцам лишения свободы каждого, Фанура Хажина — к 6 годам, Фангиза Шарифгалеева — к 5 годам 6 месяцам лишения свободы. Все им назначено отбывание наказания в колонии общего режима. 6 мая 2025 года Верховный суд Республики Удмуртия по итогам рассмотрения апелляционных жалоб снизил сроки лишения свободы для всех осуждённых и назначил: Ильнару Асылгужину, Айгизу Ишмурзину и Рафилу Утябаеву — 5 лет каждому, Фануру Хажину — 4 года 2 месяца, Фангизу Шарифгалееву — 4 года.
27 января 2025 года судья Промышленного районного суда Самары
Базева Варвара Андреевна вынесла приговор медсестре Минзие Адигамовой, находившейся в период следствия под домашним арестом. Ещё до уголовного преследования Баймакский районный суд Башкортостана 26 января 2024 года назначил Адигамовой 60 часов обязательных работ по делу о неповиновении законному распоряжению сотрудника полиции (ч. 1 ст. 19.3 КоАП РФ). В постановлении суда говорилось, что она «отказалась покинуть территорию [возле суда] и не препятствовать выезду спецавтотранспорта конвойного подразделения с территории суда». Минзия Адигамова была единственным фигурантом «Баймакского дела», которой вместо заключения под стражу суд избрал меру пресечения в виде домашнего ареста. По ч. 2 ст. 212 УК РФ и ч. 1 ст. 318 УК РФ её приговорили к 4 годам лишения свободы в колонии общего режима. Суд отсрочил Адигамовой исполнение наказания до достижения её ребёнком 14-летнего возраста. После оглашения приговора 27 января — в день рождения Адигамовой — ей заменили меру пресечения на подписку о невыезде и отпустили на свободу. В тексте приговора было указано, что женщина признала вину и «раскаялась в содеянном», от дачи показаний отказалась. По итогам состоявшегося в Самарском областном суде 9 апреля 2025 года апелляционного рассмотрения представления прокурора приговор был оставлен без изменения.
7 февраля 2025 года Ленинский районный суд Ижевска вынес приговоры ещё шестерым фигурантам «Баймакского дела». Судья Никитина Елена Николаевна приговорила Даниса Узянбаева, Азата Мирзина, Фатиха Ахметшина и Венера Яубасарова к 4 годам 6 месяцам лишения свободы. Вилюру Карачурину и Айтугану Малабаеву судья назначила по 5 лет лишения свободы. Всем из них назначено отбывание наказания в колонии общего режима. Всех фигурантов обвиняли в участии в массовых беспорядках (ч. 2 ст. 212 УК РФ) и применении неопасного для жизни и здоровья насилия в отношении представителя власти (ч. 1 ст. 318 УК РФ). По информации СМИ, все шестеро подсудмых признали вину и просили суд о снисхождении. Обвинение просило назначить каждому из них по 7 лет лишения свободы. 6 мая 2025 года Верховный суд Республики Удмуртия по итогам апелляционного рассмотрения представления прокурора оставил приговор без изменения.
26 февраля 2025 года судья Ленинского районного суда Орска Алексеев Алексей Павлович огласил приговор Айтугану Абдуллину, Денису Икбаеву, Мурату Бикбулатову, Ильмиру Рыскулову и Айбулату Нигаматову. Всех пятерых, как следует из карточки дела на сайте суда, признали виновными по ч. 2 ст. 212 УК РФ и ч. 1 ст. 318 УК РФ. Каждому было назначено наказание в виде 5 лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима. 6 июня по итогам рассмотрения апелляционных жалоб Оренбургский областной суд снизил срок наказания Ильмиру Рыскулову, Мурату Бикбулатову, Айбулату Нигаматову до 4 лет 9 месяцев лишения свободы каждому.
3 марта 2025 года судья Промышленного районного суда города Самары Поддубная Мария Александровна вынесла приговор пятерым фигурантам «Баймакского дела» — Айгизу Абсалямову, Раилю Галину, Вадиму Кагарманову, Айсуру Тулыбаеву и Айгизу Уразаеву. Всех пятерых обвиняли по ч. 2 ст. 212 УК РФ и ч. 1 ст. 318 УК РФ. Абсалямова, Тулыбаева и Уразаева приговорили к 4 годам 6 месяцам, Кагарманова — к 4 годам 11 месяцам, Галина — к 5 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима. 18 июня 2025 года Самарский областной суд оставил этот приговор без изменения.
19 марта 2025 года судья Центрального районного суда Оренбурга Абдрашитов Руслан Халилович приговорил по ч. 2 ст. 212 УК РФ и ч. 1 ст. 318 УК РФ Айдара Юсупова к 4 годам лишения свободы, Ильназа Махмутова — к 3 годам 9 месяцам, Закия Ильясова — к 3 годам 4 месяцам, Валляма Муталлапова — к 3 годам 3 месяцам лишения свободы. Всем им назначено отбывание наказания в колонии общего режима. Газета КоммерсантЪ сообщила, что подсудимые признали вину и принесли извинения.
27 марта 2025 года в Автозаводском районном суде Тольятти огласили приговор ещё четверым фигурантам дела. Приговор вынес судья Лосев Артём Викторович. Гособвинение просило приговорить Айтугана Китикова, Шафката Ульмасбаева и Раяна Фаттахова к 7 годам лишения свободы каждого, Фидана Исмагилова — к 7 годам 6 месяцам. Всех фигурантов, как указано в карточке дела на сайте суда, обвиняли по ч. 2 ст. 212 УК РФ и по ч. 1 ст. 318 УК РФ. Суд приговорил Айтугана Китикова к 7 годам лишения свободы, Фидана Исмагилова и Шафката Ульмасбаева — к 7 годам 6 месяцам, Раяна Фаттахова — к 5 годам 6 месяцам. Всем из них назначено отбывание наказания в колонии общего режима.
7 апреля 2025 года судья Промышленного районного суда Оренбурга Измайлов Игорь Васильевич огласил приговор четверым мужчинам и одной женщине. Ильмира Ахатова, Азата Кусарбаева, Айдара Магадеева и Санию Узянбаеву приговорили к 5 годам 6 месяцам, Азамата Аминева — к 4 годам 6 месяцам лишения свободы. Их всех признали виновными по ч. 2 ст. 212 УК РФ и ч. 1 ст. 318 УК РФ и назначили отбывать наказание в колонии общего режима. Обвинение просило для каждого из подсудимых по 10 лет лишения свободы.
5 мая 2025 года судья Центрального районного суда Оренбурга Курганов Евгений Геннадьевич признал виновными по ч. 2 ст. 212 УК РФ и ч. 1 ст. 318 УК РФ и приговорил к лишению свободы в колонии общего режима: Ахата Гибадуллина, Галима Заманова, Ильнура Хажиева — на срок 5 лет, Динара Акбалина, Даяна Валеева, Дима Давлеткильдина — на срок 5 лет 6 месяцев. 10 июля 2025 года Оренбургский областной суд оставил этот приговор без изменения.
16 июня 2025 года судья Устиновского районного суда Ижевска Республики Удмуртия Азиева Екатерина Юрьевна признала виновными по ч. 2 ст. 212 УК РФ и ч. 1 ст. 318 УК РФ и приговорила к лишению свободы в колонии общего режима: Айнура Каримова и Вилюра Сагадиева — на срок 4 года 2 месяца, Альберта Тагирова — на срок 4 года 6 месяцев.
Дела Инсафа Исламова, Иршата Ульябаева, Юнира Хисаметдинова, Сагита Юлмухаметова и Айсувака Явгастина рассматривает в Ленинском районном суде Ижевска Республики Удмуртия судья Вавилов Дмитрий Павлович. В Индустриальном райсуде Ижевска под председательством судьи Шамшуриной Венеры Николаевны идёт процесс над Ильясом Байчуриным, Димом Булякбаевым, Раятом Давлетбаевым и Данисом Ахметовым. В Автозаводском районном суде Тольятти Самарской области судья Еремина Наталья Анатольевна рассматривает дело в отношении Умутбая Давлетбердина, Юнира Исламгулова, Иделя Каримова, Кабира Суяргулова и Газизьяна Хайбуллина.
Разные источники утверждают, что десятерых фигурантов, которым вменяется организация массовых беспорядков, будут судить последними. Их дело выделили в отдельное производство и оно будет рассматриваться в Оренбургском областном суде. Такое решение 16 января 2025 года вынес Шестой кассационный суд общей юрисдикции, удовлетворив соответствующее ходатайство прокуратуры. 26 июня 2025 года судья Оренбургского областного суда Азаренко Андрей Александрович, который рассматривает уголовное дело по существу, продлил срок содержания под стражей Юлаю Аюпову, Ильясу Байгускарову, Артуру Мухаметову, Ахмету Якупову, Закиру Ахмедину, Самату Давлетову, Салавату Елкибаеву, Данису Гайсину, Айнуру Хусаинову и Альфинуру Рахматуллину до 17 декабря 2025 года.
На момент вынесения 48 приговоров мы отмечаем, что всем осуждённым фигурантам «Баймакского дела», кроме Илшата Ульябаева, в суде вменяются одинаковые статьи: ч. 2 ст. 212 УК РФ и ч. 1 ст. 318 УК РФ, при этом назначенные сроки лишения свободы варьируются от 3 лет 3 месяцев до 7 лет 6 месяцев лишения свободы. Различные источники отмечают, что максимальные сроки наказания получают те из обвиняемых, которые не признают вину и отказываются от дачи показаний на основании ст. 51 Конституции РФ.
Кроме того, как сообщает ОВД-Инфо, в феврале 2025 года женщине, которая предпочла остаться анонимной, суд назначил принудительные меры медицинского характера в виде амбулаторного лечения у психиатра. Подсудимой вменяли ч. 3 ст. 212 УК РФ («Призывы к массовым беспорядкам»). По версии обвинения, за два дня до народного схода в день приговора Фаилю Алсынову она в строительном магазине в Баймаке «призывала всех прийти к суду и участвовать в массовых беспорядках в случае, если того отправят в колонию». Дело против неё возбудили в апреле 2024 года, через месяц ей избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде. Решение о принудительном психиатрическом лечении было вынесено Уфимским районным судом Республики Башкортостан 14 февраля 2025 года. 3 апреля 2025 года Верховный суд республики оставил это решение без изменения.
Основания признания политзаключёнными или лицами, в лишении свободы которых имеются явные признаки политического мотива и незаконности.
Необоснованность обвинения по ст. 212 УК РФ
Право на мирные собрания
Статья 11 Европейской конвенции по правам человека признаёт право на мирные собрания. Когда собрание имеет мирный характер, власти имеют позитивные обязательства защитить и способствовать его проведению, даже если это технически не соответствует закону (дела «Платформа “Врачи за жизнь” против Австрии (1988)», «Букта против Венгрии (2007)»).
Мирными могут считаться все мероприятия за исключением тех, когда их организаторы или участники «имеют намерение причинить вред» («Г. против Федеральной Республики Германии (1989)»). В деле «”Христиане против расизма и фашизма” против Великобритании (1980)» указано, что «право на свободу мирных собраний гарантируется каждому, кто намерен организовать мирную демонстрацию <…> Возможность <…> присоединения к демонстрации экстремистов с насильственными намерениями <…> не устраняет этого права. Даже если существует реальная угроза того, что политическое шествие выльется в беспорядки вследствие событий, выходящих из-под контроля его организаторов, такое шествие не выходит за пределы пункта 1 статьи 11 Конвенции только по этой причине».
Аналогично, в деле «Зилиберберг против Молдовы (2004)» Европейским Судом по правам человека было отмечено, что «частное лицо не должно лишаться права мирных собраний в результате отдельных актов насилия или других наказуемых деяний, совершённых другими в ходе демонстрации, если человек не отвечает насилием. Таким образом, «нет необходимости ограничивать данные свободы в любом случае, пока человек в ответ не совершит какое-либо предосудительное действие при осуществлении своих прав («Эзелин против Франции (1991)». Данные постановления имеют особое значение в интерпретации ст. 212 УК РФ «Массовые беспорядки».
- Отсутствие массовых беспорядков, неверная квалификация по ст. 212 УК РФ
Нам представляется небоснованной квалификация произошедшего у суда в Баймаке как массовых беспорядков.
Дефиниции, раскрывающей понятие массовых беспорядков, в законодательстве Российской Федерации и в актах толкования Верховного суда РФ, Конституционного суда РФ, не содержится. В доктрине уголовного права существуют различные точки зрения на определение понятия массовых беспорядков. Так, одни авторы считают, что массовые беспорядки — это нарушения общественного порядка, совершаемые большой группой людей (толпой). Другие специалисты включают в понятие признак согласованности действий лиц, а также территорию, на которой произошло преступление, то есть дают следующее определение: «Массовые беспорядки — это согласованные действия большого количества людей, грубо нарушающие установленный порядок поведения на определенной территории» (Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации / под ред. В. В. Коряковцева, К. В. Питулько. СПб., 2006.). Прямых указаний на то, какая группа людей может считаться достаточно большой, законодательство не содержит. Среди специалистов встречаются разные трактовки понятия «массовости». Например, «один из исследователей вопросов организации массовых беспорядков в СССР 1953-1980 годов В. А. Козлов на основе изученных им архивных данных делает выводы, что согласно действовавшей в обозначенное время следственно-судебной практике, “массовыми” признавались беспорядки, в которых принимали участие минимум 300 человек» (Акимов В. Т. Понятие массовых беспорядков // Юридические науки).
Характерно, что 19 января 2024 года пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков, комментируя аресты участников несанкционированных акций на брифинге, заявил, что беспорядки у здания суда в Баймаке нельзя назвать массовыми или охарактеризовать как «массовые протесты». Журналисты обратили внимание представителя Кремля, что правоохранительные органы возбудили уголовное дело именно по статье об организации массовых беспорядков и участии в них. Дмитрий Песков сказал, что в своём ответе использовал не юридический термин, а термин, который определяет число участников, поэтому беспорядки и нельзя назвать массовыми.
По мнению авторов доклада Международной комиссии о событиях на Болотной площади 6 мая 2012 года, «термин “массовый” в ст. 212 УК означает, что степень опасности деяния напрямую зависит от количества вовлечённых в него лиц». В этой связи для определения степени опасности тех деяний, которые можно отнести к «массовым беспорядкам» и иных нарушений общественного порядка с участием множества лиц, «следует учитывать тот факт, что имеет место совместное действие значительного количества лиц». Такое «значительное количество» используется для достижения определённых целей. Для квалификации событий по ст. 212 УК РФ, наряду с другими признаками объективной стороны этого состава преступления, должны иметь место насильственные действия, совершаемые значительным кругом лиц.
В докладе, кроме того, указывается, что термин «массовые беспорядки» также может быть рассмотрен через совокупность множественных эпизодов «беспорядков» (а не через количество вовлечённых лиц). Такое рассмотрение вытекает из самого использования множественного числа слова «беспорядки». Однако фраза «массовые беспорядки» не может быть интерпретирована как «публичные действия, во время которых происходит какое-либо насилие, нарушение порядка или поведение, склонное к мятежу». Как подчёркивает Европейский суд по правам человека, «никто не должен быть лишён своего права на свободу собраний только потому, что имели место насильственные действия или иные противоправные деяния, совершённые другими лицами в ходе публичного мероприятия, если сам участник в этой ситуации сохраняет мирный характер своих действий и стремлений».
В случае отсутствия продолжительных и последовательных насильственных действий с вовлечением одних и тех же лиц любые отдельные инциденты, происходящие в течение некоторого количества часов, не могут быть расценены как «массовые беспорядки» с применением ст. 212 УК РФ, но должны оцениваться именно как отдельные инциденты.
Иными словами, если существует заслуживающее доверие доказательство того, что конкретные лица применили насилие, не опасное для жизни и здоровья сотрудников полиции (в соответствии с формулировкой ч. 1 ст. 318 УК РФ), это само по себе автоматически не означает участие таких лиц в «массовых беспорядках».
В дополнение к определённому количеству вовлечённых лиц, и продолжительному / последовательному характеру совершаемых действий, оценка также должна строиться на анализе степени совершаемого насилия, необходимой для достижения тех пределов, за которыми начинаются «массовые беспорядки». Очевидно, что степень такого насилия должна быть достаточно серьёзной для того, чтобы подпадать под эту квалификацию.
Более того, принимая во внимание весь спектр тех действий, которые не являются мирными, в рамки применения термина «массовые беспорядки» будут подпадать только те из них, которые несут угрозу общественной безопасности. В этой связи Верховный Суд Российской Федерации в своём Определении № 0-о05−35сп от 22 декабря 2005 г. пришёл к выводу, что «под массовыми беспорядками законодатель понимает преступление, нарушающее общественную безопасность и способное причинить тяжкие последствия в сфере экономики, политики, экологии <…>, парализовать деятельность государственной власти и управления».
Таким образом, уровень насилия, при достижении или превышении которого происходящие события правомерно рассматривать как массовые беспорядки, возникает только в том случае, если причинённые повреждения, направленность насилия находятся на «верхней ступени» шкалы, так что возникает обоснованное опасение за жизнь и безопасность третьих лиц.
Как итог — определение термина «массовые беспорядки» должно включать значительное количество людей, действующих совместно, последовательно и продолжительно применяющих насилие, уровень которого достигает таких пределов, что возникает обоснованное опасение за безопасность третьих лиц.
У событий, произошедших 17 января 2024 года у здания суда в Баймаке, указанные признаки отсутствуют. Сколько именно человек из числа собравшихся у суда кидали какие-либо предметы в сторону силовиков, сейчас сказать невозможно, однако по официальной статистике у здания находилось около двух тысяч человек, как видно на видео, среди них были женщины и дети, далеко не все из них что-то куда-то бросали, но очевидно, что какие-либо действия против силовиков совершало меньшинство собравшихся. Большинство же участников схода пришли поддержать своего земляка, реализуя тем самым своё право на мирное собрание. В соответствии со ст. 31 Конституции РФ они собрались у суда в Баймаке мирно и без оружия, умысел на участие в массовых беспорядках у них отсутствовал.
При этом участниками массовых беспорядков должны признаваться только лица, вовлечённые в указанные активные действия. Если человек находился в толпе, но не принимал участия в активных насильственных действиях, он участником массовых беспорядков не является. Тем не менее, как следует из формулировок обвинения, каждому из участников, помимо совершённого или якобы совершённого им самим, вменяются действия, совершённые, по утверждению следствия, всеми собравшимися.
- Отсутствие поджогов, погромов и иных признаков массовых беспорядков. Отсутствие применения насилия к третьим лицам
Как следует из ст. 212 УК РФ, массовые беспорядки должны, помимо ранее упомянутых, сопровождаться хотя бы одним признаков из следующих: насилием, погромами, поджогами, уничтожением имущества, применением оружия, взрывных устройств, взрывчатых, отравляющих либо иных веществ и предметов, представляющих опасность для окружающих, а также оказанием вооружённого сопротивления представителю власти.
Обвиняемые не совершили погромов, поджогов, уничтожения имущества, не применили оружие или взрывные устройства, взрывчатые и отравляющие вещества. Что касается упомянутого в тексте ст. 212 УК РФ насилия, то оно должно быть направлено не против представителя власти, а в отношении других лиц, например, участников того же собрания или же неких третьих лиц, защиту которых осуществляют полицейские. Об этом свидетельствует выделение законодателем в диспозиции ст. 212 УК РФ в отдельные признаки «насилия» и «оказания вооружённого сопротивления представителю власти». Такое разделение признаков указывает на то, что объектом применения «насилия» в этой статье является не представитель власти, а иное лицо (лица). Таким образом, признак «насилие» в действиях собравшихся у суда в Баймаке тоже отсутствует, что в очередной раз говорит о неправильной квалификации произошедших событий.
- Отсутствие в действиях участников схода признаков оказания вооружённого сопротивления и использования предметов, представляющих опасность для окружающих
Как уже было сказано, статья о массовых беспорядках применялась к участникам политических протестов и раньше. Именно так следствие квалифицировало захват общественной приёмной администрации президента сторонниками Национал-большевистской партии (НБП) Эдуарда Лимонова в 2004 году, уже упоминавшиеся столкновения на московской Болотной площади в 2012-м, а также акции протеста у Верховной рады Крыма в 2014-м. Участие в массовых беспорядках вменяли и фигурантам «московского дела», которые протестовали из-за недопуска независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму летом 2019 года, но позже обвинение по этой статье сняли. В массовых беспорядках обвиняли участников схода против коронавирусных ограничений во Владикавказе в 2020-м, а лидеров ингушского протеста против передачи части территории республики соседней Чечне осудили за организацию беспорядков. Но ни в одном из этих дел, досконально изученных «Медиазоной», как отмечает издание, не встречалась формулировка «вооружённое сопротивление». В постановлении о возбуждении дела после протестов в Баймаке говорится, что демонстранты «применяли в качестве оружия камни, деревянные палки и металлические пруты». В метании камней в сторону силовиков протестующих раньше обвиняли, например, во время митингов в Ингушетии и Северной Осетии, тем не менее следователи тогда предпочитали говорить о «силовом» или «физическом», но не «вооружённом» сопротивлении полицейским.
Большинству обвиняемых инкриминируются броски снежков в сторону силовиков. При этом в описании видео с места происшествия, лёгшего в основу обвинения, к примеру, Мунира Исянгильдина, речь идёт даже не о куске льда, а именно о комке снега. При таких обстоятельствах нам представляется надуманным и необоснованным утверждение следствия о том, что Исянгильдин «метал в <…> сотрудников полиции комья обледеневшего снега, чем причинял физическую боль и телесные повреждения», а также о том, что «в результате противоправных действий Исянгильдина М.М. и иных лиц не менее 6 сотрудников правоохранительных органов получили телесные повреждения». Ни в одном из этих утверждений не обосновывается какими-либо доказательствами причинно-следственная связь между метанием обвиняемым одного снежка и причинением телесных повреждений и физической боли нескольким полицейским в полном защитном снаряжении и со щитами. При таких обстоятельствах попытка инкриминировать ему вооружённое сопротивление выглядит не основанной на законе и здравом смысле, поскольку снежок даже с очень большой натяжкой нельзя отнести к оружию или к предметам, используемым в качестве оружия и даже «представляющим опасность для окружающих». Это же касается и всех иных участников «массовых беспорядков», которые обвиняются в метании комков снега.
При этом нам кажется важным отметить, что предметы, которые кидали участники схода у суда в сторону полицейских, вопреки утверждениям следствия, не были приисканы и припасены протестующими заранее, заготовлены специально в качестве оружия для участия в массовых беспорядках. И снег, и палки, которыми якобы бросали в силовиков, на момент событий уже находились у здания суда, что ещё раз говорит о том, что собравшиеся не планировали массовых беспорядков и не вступали «в предварительный сговор», как то утверждает следствие. Мы полагаем, что правовая неопределённость, заложенная в дефиниции статьи о массовых беспорядках, может сохраняться в законе целенаправленно, для применения её подконтрольными власти судами в случаях политической целесообразности, в том числе — для расправы с политическими оппонентами.
Действия полиции, спровоцировавшие противостояние
Мы полагаем, что в рассматриваемом случае действия полиции и Росгвардии, избыточное применение ими силы следует рассматривать как необоснованные не только в контексте правомерности и легальности формы публичного мероприятия — мирного схода, — но и причин протеста: неправосудного, политически мотивированного приговора, вынесенного Фаилю Алсынову при отсутствии иных эффективных инструментов, как юридических, так и общественных, для выражения несогласия с этим судебным актом. При этом именно на избыточное и, возможно, заранее спланированное применение полицией и Росгвардией физической силы и спецсредств указывают многие свидетельства и обстоятельства.
Многочисленные свидетели событий 17 января 2024 года у суда в Баймаке, включая полицейских, указывают, что сначала акция была мирной, люди ожидали оглашения приговора, иногда они скандировали «Свободу!», у некоторых были с собой флаги Башкортостана. Однако в какой-то момент люди окружили здание суда, встав вокруг него так, чтобы заблокировать выезд машинам, на которых увезли бы Фаиля Алсынова в случае вынесения ему обвинительного приговора. Около 10:30 ОМОН в боевой экипировке вышел из служебного транспорта, где находился до этого, и щитами стал оттеснять людей от суда. На этот момент до физических столкновений не дошло, но пятерых или шестерых человек задержали. На помощь силовикам приехали полицейские из Сибая. Позже, после того как стало известно о приговоре, а полицейские вновь попытались с применением насилия оттеснить собравшихся от здания, в ответ из толпы людей полетели снежки. Очевидцы рассказывают, что у одного из микроавтобусов с полицией, выехавших с территории суда было разбито стекло. Полицейские применяли дубинки, свето-шумовые гранаты и слезоточивый газ. На видеозаписях видно, что полицейские без каких-либо видимых причин избивают участников схода.
Следует отметить, что существующие международные стандарты деятельности правоохранительных органов при обеспечении права на свободу мирных собраний и поддержании правопорядка при их проведении предполагают следование ряду принципов, правил и процедур. В частности, как указывается в Докладе Международной комиссии о событиях на Болотной площади 6 мая 2012 года, «демократические основы полицейской деятельности требуют, чтобы полиция одновременно находилась вне политики и защищала демократическую политическую активность и процессы (например, свободу слова, общественных собраний и демонстраций). В противном случае, демократия будет находиться под угрозой <…> Полицейская деятельность в демократическом обществе включает в себя защиту проведения демократических мероприятий. Поэтому полиция должна уважать и защищать права свободы слова, свободы выражения, ассоциаций, передвижения, свободы от произвольного ареста, задержания и ссылки, а также беспристрастность в применении закона. В случае незаконных, но мирных собраний, сотрудники правоохранительных органов должны избегать применения силы или, если это невозможно, применять её в минимальной степени».
Следует отметить, что силовики основательно и заблаговременно готовились к мероприятию. Так, на судебном заседании в процессе над Илшатом Ульябаевым 6 июня 2024 года зачитали письменные показания заместителя начальника полиции МВД по Башкортостану Радика Шаймухаметова. Он уточнил, что его командировал в Баймак глава МВД по республике «для координации деятельности по обеспечению общественного порядка», поскольку была «высокая вероятность срыва судебного заседания 17 января». Шаймухаметов сообщил, что перед заседанием суда 17 января в Баймаке создали оперативный штаб, работу которого координировал он сам и заместитель начальника полиции по охране общественного порядка МВД по РБ Руслан Скорняков. «Было осуществлено оцепление здания суда, перекрыты тяжёлой техникой подъезды к суду, организовано наблюдение за действиями протестующих с воздуха квадрокоптерами. <…> Предусмотрены основной и запасной проезды конвойного автомобиля [с Фаилем Алсыновым] в случае его осуждения к реальному сроку лишения свободы. <…> Были задействованы также сотрудники управлений Росгвардии Оренбургской и Челябинской областей», — говорится в показаниях Шаймухаметова.
Как следует из показаний других свидетелей-силовиков и некоторых материалов дела, башкортостанское МВД и региональное управление Росгвардии заранее направили в Баймак значительные силы, в том числе спецназ — был мобилизован весь личный состав Баймакского райотдела внутренних дел. Из Уфы, согласно другим материалам дела, в Баймак тоже направили отряд ОМОНа «Урал» Управления Росгвардии по РБ в составе 45 сотрудников. Из некоторых документов по делу стало известно, что в Баймак направили сотрудников полиции из городов Октябрьский и Стерлитамак. По словам очевидца, по мере прибытия многочисленных подкреплений, количество хорошо экипированных силовиков достигло 500-700 человек.
При такой численности правоохранителей и предварительной подготовке мероприятия не вполне понятно, по каким причинам ситуация у суда могла выйти из-под контроля, если первоначальный замысел самих силовиков не был направлен на эскалацию насилия. Масштабность подготовительных действий говорит о том, что полиция имела возможность избежать насилия, осуществить действия, необходимые для сохранения безопасности государственных органов и поддержания общественного порядка без нарушения прав граждан, а допущенные ею насилие и нарушения имели не спонтанный и не ситуативный характер.
Правозащитная организация Amnesty International заявила, что в отношении протестующих была применена неоправданная сила: «Судя по всему, столкновения были спровоцированы после того, как полиция, экипированная в высококачественное защитное снаряжение, попыталась лишить местных жителей права на мирное собрание. В социальных сетях появились видеоролики, на которых видно, как протестующие отвечают снежками на применение полицией слезоточивого газа и других жёстких методов воздействия. Уголовные обвинения против протестующих и заявление властей о том, что они реагировали на массовые беспорядки, представляются совершенно необоснованными». Организация потребовала срочного и беспристрастного расследования действий полиции, включая использование ею оружия, и немедленного освобождения всех мирных протестующих, незаконно задержанных или арестованных в связи с этими событиями.
Анализ обвинения по ч. 1 и 2 ст. 212 УК РФ (организации массовых беспорядков и участие в них)
Ряд фигурантов «Баймакского дела» обвиняется в организации массовых беспорядков. Главным организатором следствие считает Руслана Габбасова. Помимо него, организация беспорядков вменяется, например, Ильясу Байгускарову. На видео с акции в Баймаке Байгускаров призывает «тормозить протест», потому что дальше «смысла нет», однако в материалах дела он назван одним из организаторов беспорядков. Обвинение считает, что Байгускаров ещё 15 января «под видом работ по расчистке снега на территории, расположенной напротив здания суда», организовал там «создание при помощи трактора снежных валов», чтобы протестующие могли кидаться снегом в силовиков. Сам он это отрицает. Также одним из организаторов беспорядков, якобы действовавших по указанию Руслана Габбасова, следствие называет Артура Мухаметова. Провоенный Telegram-канал «Рыбарь» называл Мухаметова «салафитом» и «одним из главных организаторов протестов», входившим в «ядро» признанной в 2020 году экстремистской организации «Башкорт». При задержании в его машине якобы нашли рации.
По версии обвинения, озвученной в процессе над Илшатом Ульябаевым, проходившем в Орске, Ильяс Байгускаров, Юлай Аюпов, Артур Мухаметов вместе с Русланом Габбасовым и иными неустановленными лицами, «действуя по мотивам политической ненависти к существующему государственному устройству России, желая дестабилизировать общественно-политическую обстановку в РФ, <…> объединились в организованную группу в целях организации массовых беспорядков в Баймакском районе». В период с 15 по 17 января 2024 года они «обеспечили на подконтрольном им канале YouTube, а также в публичных каналах в мессенджере Telegram [публикацию] сообщений, призывающих собраться жителей Баймакского и иных близлежащих районов РБ 17.01.2024 на несанкционированный митинг возле Баймакского районного суда РБ».
Кроме того, как следует из материалов по делу, «Аюпов Ю.З., Байгускаров И.И., Мухаметов А.Ж. и иные неустановленные организаторы преступления в целях достижения задуманного и помощи в координации массовых беспорядков в период до 17.01.2024 приискали из числа жителей Республики Башкортостан несогласных с привлечением Алчинова Ф.Ф. к уголовной ответственности: Якупова А.М., Ахмедина З.А., Давлетова С.А., Елкибаева С.М., Гайсина Д.А. и иных неустановленных лиц, которым под предлогом поддержки Алчинова Ф.Ф. предложили принять участие в организации массовых беспорядков возле здания суда путём координации действий участников несанкционированного митинга, проинструктировав их о методах и способах провоцирования иных участников несанкционированного митинга к осуществлению массовых беспорядков и применения в ходе них насилия в отношении представителей власти, совершения погромов путём повреждения имущества правоохранительных органов, применения подручных средств в качестве оружия по отношению к сотрудникам правоохранительных органов.
В целях организации массовых беспорядков около 9 часов 17.01.2024 координаторы Аюпов Ю.З., Мухаметов А.Ж., Якупов А.М., Байгускаров И.И., Ахмедин З.А., Давлетов С.А., Елкибаев С.М., Гайсин Д.А. и иные неустановленные лица также прибыли на несанкционированный митинг, имея при себе средства индивидуальной маскировки, средства связи, аэрозольные баллоны со слезоточивым газом, приискав на месте камни, комья мёрзлого снега, глыбы льда, заранее приготовленные по указанию Байгускарова И.И., и другие предметы для нападения на сотрудников правоохранительных органов». Этой категории обвиняемых следствие присвоило наименование «координаторы».
Затем, «согласно распределённым между соучастниками ролям, Аюпов Ю.З., Байгускаров И.И., Мухаметов А.Ж. и иные неустановленные организаторы преступления должны были, находясь 17.01.2024 возле здания суда, после оглашения приговора Алчинову Ф.Ф. спровоцировать своим поведением и призывами участников несанкционированного митинга к участию в массовых беспорядках, применению насилия в отношении представителей власти, а также обеспечивать руководство действиями толпы в ходе массовых беспорядков».
Согласно ст. 33 УК РФ, организатором преступления признаётся лицо, организовавшее совершение преступления или руководившее его исполнением, а равно лицо, создавшее организованную группу или преступное сообщество (преступную организацию) либо руководившее ими. Мы полагаем, что ни организацию, ни руководство массовыми беспорядками, ни создание какой-либо организованной группы указанные лица не осуществляли.
Можно заметить, что следствие, не вменяя никому из участников событий у суда ч. 3 ст. 212 УК РФ — призывов к массовым беспорядкам, — в обвинительных заключениях неоднократно при перечислении действий, отнесённых к организации массовых беспорядков, дополняет их именно «призывами», на которые поддались участники событий у суда, таким образом недопустимо расширяя, на наш взгляд, состав преступления. С большой долей вероятности подобное смешение осуществляется намеренно, чтобы заполнить пустоты в доказательственной базе «организации массовых беспорядков», обвинение в которой выглядит неубедительно. Эти призывы якобы осуществлялись «группой организаторов» как в Интернете, так и непосредственно у суда. При этом санкция ч. 3 ст. 212 существенно легче наказания, которое может быть назначено за организацию массовых беспорядков: она составляет лишь до 2 лет лишения свободы.
В то же время мы полагаем, что и состав призывов к массовым беспорядкам в действиях указанных лиц отсутствует. Призывы собраться у суда в Баймаке, даже если такие и имели место в действительности в Интернете, не означали призывы к беспорядкам, а лишь приглашали принять участие в мирном мероприятии и выразить свою солидарность с подсудимым Алсыновым. Приведённые следствием краткие и отрывочные призывы и предупреждения, звучавшие на месте событий, также не являются призывами к беспорядкам и любым формам насилия и не свидетельствуют о том, что обвиняемые имели умысел на совершение таких деяний или руководили ими. Кроме того, видеозаписи событий и свидетельства очевидцев демонстрируют, что они в ряде случаев, напротив, призывали протестующих разойтись и не допускать столкновений с силовиками.
Под организацией массовых беспорядков, точное определение которой в законодательстве отсутствует, мы считаем правильным понимать их планирование, подготовку и обучение потенциальных участников, руководство действиями людских масс и направление их на совершение насилия, погромов, поджогов, уничтожение имущества, применение оружия, взрывчатых веществ и взрывных устройств, отравляющих веществ, а также на оказание вооружённого сопротивления представителям власти.
В Комментарии к УК РФ под редакцией бывшего Председателя Верховного Суда РФ В. М. Лебедева указывается: «Организация массовых беспорядков состоит в подстрекательстве и руководстве действиями толпы, направлении на указанные в законе действия — совершение погромов, поджогов, уничтожение имущества и выдвижение различных требований к представителям власти, в оказании им вооружённого сопротивления; может выражаться в различных формах, в частности в планировании, подготовке этих действий, в подборе и обучении провокаторов массовых беспорядков, в подстрекательстве группы людей (толпы) к их совершению, в направлении толпы непосредственно на совершение массовых беспорядков, погромов, поджогов, вооружённого сопротивления представителям власти». При этом субъективные признаки организации преступления характеризуются прямым умыслом.
Мы полагаем, что как умысел на организацию массовых беспорядков, так и собственно действия, составляющие состав данного деяния, у каких-либо участников схода в Баймаке отсутствовали. У нас нет достаточных оснований предполагать, что «организаторы» схода предвидели его силовой разгон: предыдущие противостояния с силовиками всегда носили мирный характер со стороны протестующих, и именно в Республике Башкортостан, как уже было сказано выше, ненасильственный протест приводил некоторое время к позитивным результатам, а не к насильственному подавлению. С большей долей вероятности все, собравшиеся на сход, полагали, что сам их приход к суду может привести к какому-то позитивному разрешению ситуации для подсудимого.
Поэтому мы полагаем, что никакого предварительного обучения участников схода обвиняемые не проводили, спонтанную реакцию на действия полицейских не планировали. Что касается общего руководства действиями собравшихся, то мы полагаем, что в экстремальной ситуации, созданной силовиками у суда, каждый человек самостоятельно принимал решение, как ему поступать, и выкрики обвиняемых о том, что, на их взгляд, следует делать, — являлись личным мнением каждого из них, а не признаком руководства всеми участниками схода или принадлежности к организованной группе. Утверждение следствия о том, что организаторы «должны были своим поведением и призывами спровоцировать участников несанкционированного митинга к участию в массовых беспорядках, применению насилия в отношении представителей власти, а также обеспечивать руководство действиями толпы» мы считаем безосновательными, тем более, что совершенно неочевидно, какие итоговые цели ставились бы в таком случае «организаторами». При этом наличие у «организаторов» раций, даже если таковые у них действительно были, само по себе не может являться достаточным доказательством того, что они координировали собравшихся людей, а, следовательно, руководили массовыми беспорядками. Каких-либо иных доказательств того, что такое руководство действительно осуществлялось, следствие до настоящего момента не привело.
Находящийся за границей Руслан Габбасов отрицает не только своё участие в организации массовых беспорядков, но и сам факт наличия у народного схода каких-либо организаторов. «Никаких организаторов митинга не было. Просто люди собрались ради поддержки своего земляка, своего экоактивиста, одного из своих лидеров. И конечно же, они собрались по своей воле, потому что были возмущены, насколько необоснованно обвинение. Мы, башкиры, все знаем, что Алсынов не говорил то, что ему приписывают, именно это возмутило, поэтому огромное количество и вышло простого народа. А ситуацией воспользовались спецслужбы, чтобы погасить огромный протестный потенциал, который есть в республике», — приводит его слова «Медиазона».
Но важнейшим из аргументов, по нашему мнению, является то, что в действиях участников схода у суда в Баймаке очевидно отсутствуют необходимые признаки состава преступления «массовые беспорядки», о чём речь шла выше. При таких обстоятельствах, даже если допустить, что Байгускаров и иные действительно созывали людей на сход и давали какие-то указания собравшимся на месте событий, то организаторами именно массовых беспорядков они не являлись, а, следовательно, соответствующая частьст. 212 УК РФ вменена им неправомерно.
Квалификация действий части участников схода по ст. 318 УК РФ
Вопрос об определении термина «насилие» является дискуссионным. Несмотря на его частое упоминание в Уголовном Кодексе, законодательно это понятие в нём не закреплено, что создаёт значительные пробелы и возможности для расширительного толкования недобросовестными правоприменителями в следственно-судебной практике. Заполняя эти пробелы, Пленум Верховного Суда РФ в своём Постановлении от 01.06.2023 N 14 «О некоторых вопросах судебной практики по уголовным делам о преступлениях, предусмотренных статьями 317, 318, 319 Уголовного кодекса Российской Федерации» указал: «Под насилием, не опасным для жизни или здоровья, в части 1 статьи 318 УК РФ следует понимать побои или совершение иных насильственных действий, связанных с причинением потерпевшему физической боли либо с ограничением его свободы (связывание рук, применение наручников, оставление в закрытом помещении и др.), не повлёкших причинения вреда здоровью потерпевшего».
Исходя из этой трактовки, мы полагаем, что броски комков снега, либо иных предметов, в сторону экипированных в защитное снаряжение сотрудников полиции можно пытаться квалифицировать как применение насилия лишь в тех случаях, когда они действительно причинили полицейским боль, а любой физический контакт участников схода с силовиками — когда он действительно ограничил их свободу, при этом каждый такой случай должен рассматриваться отдельно. Само по себе метание снежков не содержит признаков насилия: детская игра в снежки не запрещена законодательством и не содержит в себе элементов насилия ни в бытовом значении, ни в области правоприменения, попадание снежков, как правило, не причиняет детям никакого вреда. В этой связи особо неубедительной выглядит попытка обвинения доказать тот факт, что сотрудники полиции в защитной экипировке массово испытали от аналогичных попаданий физическую боль и страдания.
При этом мы считаем необходимым учитывать контекст совершения участниками схода в Баймаке подобных деяний. Даже те из них, которые совершили действия, которые могут быть квалифицированы как применение насилия, сделали это в ходе собрания, участники которого выражали возмущение осуждением их земляка по надуманному предлогу. Участники этого собрания столкнулись с противодействием полиции, неправомерно препятствовавшей его проведению, применившей специальные средства, необоснованное и несоразмерное ситуации насилие против мирных участников схода. Это определило атмосферу, в которой право каждого из участников схода на мирные собрания уже было нарушено. Безусловно, именно это вызвало спонтанную ответную реакцию собравшихся, которые не являются политическими активистами и завсегдатаями протестных акций. Возможно, они впервые столкнулись с полицейским насилием, не знали, как на него реагировать и стремились хоть как-то защитить себя и других участников схода.
Ст. 37 УК РФ устанавливает, что «не является преступлением причинение вреда посягающему лицу в состоянии необходимой обороны, то есть при защите личности и прав обороняющегося или других лиц, охраняемых законом интересов общества или государства от общественно опасного посягательства, если это посягательство было сопряжено с насилием, опасным для жизни обороняющегося или другого лица, либо с непосредственной угрозой применения такого насилия». При этом в п. 2.1 названной статьи отдельно отмечается, что «не являются превышением пределов необходимой обороны действия обороняющегося лица, если это лицо вследствие неожиданности посягательства не могло объективно оценить степень и характер опасности нападения». Эта норма разъясняется в Постановлении Пленума Верховного Суда РФ от от 27 сентября 2012 г. N 19 «О применении судами законодательства о необходимой обороне и причинении вреда при задержании лица, совершившего преступление», в п. 4 которого указано, что «при выяснении вопроса, являлись ли для оборонявшегося лица неожиданными действия посягавшего, вследствие чего оборонявшийся не мог объективно оценить степень и характер опасности нападения суду следует принимать во внимание время, место, обстановку и способ посягательства, предшествовавшие посягательству события, а также эмоциональное состояние оборонявшегося лица (состояние страха, испуга, замешательства в момент нападения и т.п.)». В соответствии с п. 16 этого Постановления, «в тех случаях, когда обстановка давала основания полагать, что совершается реальное общественно опасное посягательство, и лицо, применившее меры защиты, не осознавало и не могло осознавать отсутствие такого посягательства, его действия следует рассматривать как совершённые в состоянии необходимой обороны». Мы полагаем, что действия многих участников схода, против которых (а также их жён и матерей, присутствовавших там же) неожиданно были применены свето-шумовые гранаты и слезоточивый газ, следует рассматривать именно таким образом, то есть как направленные на защиту себя и своих близких от неправомерного посягательства.
При этом следует повторить, что такое применения физической силы и специальных средств полицией может быть сочтено непропорциональным применением силы, а действия власти являлись провокационными. Европейский суд указывал на то, что непропорциональное применение силы к участникам мирных собраний может быть приравнено к жестокому обращению, запрещённому ст. 3 Конвенции о защите прав человека. Если против протестов используется сила, то как минимум должна существовать «форма независимой оценки действий силовиков и их соразмерности в целях обеспечения ответственности за принятые меры».
На непропорциональное применение силы со стороны власти указывает и то, что в результате действий силовиков к медицинским работникам обратились не менее 20 человек из числа собравшихся у суда, при этом у нас не вызывает сомнения, что применение специальных средств — свето-шумовых гранат и слезоточивого газа — против мирных людей, сконцентрированных на небольшой площади, действительно способно причинить им вполне осязаемый и даже существенный физический вред. На видеозаписях видно, как люди бегут, закрывая лица руками, чтобы защитить глаза. Однако очевидна ассиметричная оценка правоохранительными органами действий мирных участников схода и силовиков: никто из правоохранителей не понёс, насколько нам известно, наказания за применение несоразмерной и избыточной силы. В то же время, против самих участников схода возбуждено рекордное в России количество уголовных дел, которые грозят им длительными сроками лишения свободы.
При сравнении с наказанием, которое было назначено судом участникам «Ингушского дела», бо́льшая строгость наказания, вынесенного осуждённым по Баймакскому делу говорит, на наш взгляд, об ужесточении репрессий. Так, за сломанные нос и ногу сотрудника Росгвардии при столкновении протестующих с силовиками на массовом мероприятии 27 марта 2019 года ингушский активист Заурбек Дзауров по ч. 2 ст. 318 УК РФ был приговорён в 2021 году к 2 годам колонии общего режима, при этом в качестве отягчающего обстоятельства суд указал, что Дзауров руководствовался политическим мотивом. Три года спустя за три удара, нанесённых полицейскому Рустаму Асанову, не причинивших тому серьёзного вреда, а также защищённому, как указывает следствие, шлемом с опущенным стеклом, участник схода в Баймаке фермер Илшат Ульябаев был приговорён к 5 годам лишения свободы.
Участие провокаторов
Отдельно важно отметить, что по утверждению как журналистов, так и родственников задержанных в толпе находились провокаторы с закрытыми лицами, которые активно призывали людей к противоправным действиям и первыми начинали кидаться снегом с целью организации столкновений между протестующими и силовиками. Очевидцы утверждают, что часть людей в масках находилась изначально позади силовиков, а затем — рассредоточилась среди собравшихся.
Как пишет «Медиазона», Руслан Габбасов возлагает вину за столкновения в Баймаке на самих силовиков. По его сведениям, в толпе у суда были провокаторы; об этом же сообщали родственники задержанных и местные паблики. «Узнали одного из провокаторов, который до этого был провокатором по делу нашей марксистской пятёрки», — сказал журналистам Габбасов.
Telegram-канал «Правда Башкирии» выкладывал фото и видео «крепких ребят» в штатском, которые стояли позади силовиков и «начали первыми кидать в толпу куски льда в тот момент, когда ОМОН начал оттеснять людей от здания суда». На видео один из этих людей действительно бросает в толпу из-за спины омоновцев кусок смёрзшегося снега, но не ясно, в какой момент сняты эти кадры — до начала столкновений или уже после. «Мужчина на фото под номером 3 — это Сергей Сапожников, он же Сергей Родник. Он тщательно скрывал лицо под балаклавой во время событий в Баймаке, но камера успела заснять его в тот момент, когда он её поправлял. Его тут же опознали его же знакомые, которые ходили вместе с ним на так называемый марксистский кружок в Уфе», — отмечал Telegram-канал.
Сергей Сапожников — воевавший на стороне так называемой ДНР украинец, на показаниях которого основано «дело Уфимского марксистского кружка», возбуждённое по шести тяжким статьям УК против пятерых человек, которые с конца марта 2022 года содержатся под стражей. В Украине он объявлен в международный розыск по обвинениям в грабеже и убийстве. Сапожников, внедрившийся в кружок, дал ФСБ показания о том, что его участники планировали «захватить власть, убивать сотрудников полиции, политиков». При этом роль провокатора, как и в деле «Нового величия», была исключительно высока: именно он, войдя в доверие к уфимцам, настойчиво и упорно стремился качественно перевести марксистский кружок, объединивший активистов, рабочих, врача и пенсионеров, из дискуссионного клуба региональных мыслителей-теоретиков в разряд боевых террористических организаций, превратив почёрпнутые из истории и оторванные от реальности лозунги в угрожающие действующей власти планы нескольких уфимцев. Эта задача с большой долей вероятности была поставлена Сапожникову правоохранительными органами.
Его присутствие и активные действия у суда в Баймаке, если они будут подтверждены, могут явиться весомым доказательством того, что эскалация столкновения народа с полицией была заранее запланирована ФСБ и властями с целью возбуждения уголовного дела и раскручивания маховика репрессий, а реализована — руками провокаторов. Косвенным доказательством такого намерения является и возбуждение уголовного дела о массовых беспорядках в очень короткие сроки — ещё до завершения схода у суда: это заставляет предположить, что такое решение было принято заранее. Возможно, для лучшей подготовки силовиков к подобной провокации было без объяснения причин перенесено оглашение приговора Фаилю Алсынову с 15 на 17 января 2024 года. Как было описано выше, решение о провокации столкновения могло быть продиктовано политическими причинами: необходимостью устрашения башкирского общества, подавления инакомыслия, снижения протестной активности до того практически нулевого уровня, который власть считает для себя безопасным в масштабах всей страны.
Использование «засекреченных свидетелей» для доказывания в суде
В судебном заседании над Илшатом Ульябаевым зачитали показания целой группы засекреченных свидетелей под псевдонимами «Мустафин Ильдар Айратович», «Якупов Вадим Галиевич», «Тор», «Уран», «Поэт», «Токарь». Как минимум двое из них («Тор» и «Уран») — сотрудники правоохранительных органов. По данным СКР, все они «не пожелали явиться ввиду чрезвычайной удалённости суда от мест их проживания и отсутствия прямого железнодорожного сообщения с Орском». Показания этих засекреченных свидетелей фигурируют и в делах других обвиняемых по «Баймакскому делу».
Именно засекреченные свидетели указывают на часть участников схода как на «организаторов» и «координаторов» «массовых беспорядков», подтверждают наличие у них переносных радиостанций. Они же указывают на конкретных лиц, якобы применявших насилие против полицейских. К примеру, засекреченный свидетель под псевдонимом «Уран», сообщивший, что он — «оперуполномоченный одного из подразделений МВД по РБ», который 17 января проводил «ОРМ по выявлению организаторов и координаторов протеста», дал следующие показания: «Действия протестующих носили явно спланированный характер, на это указывает наличие средств связи, нескольких координаторов, направлявших и призывавших к насилию в отношении сотрудников правоохранительных органов. [Артур] Мухаметов cтал громко кричать «Нас много!», а также «Тахбир!» (так в документе). Своими выкриками Мухаметов явно демонстрировал, что ему полностью подчинены собравшиеся протестующие, он подогревал их эмоциональное возбуждение. В промежуток времени с 14:00 по команде [Самата] Давлетова протестующими была взята в кольцо резервная группа сотрудников полиции УМВД России по городу Сибай, которых по его команде стали забрасывать кусками льда и прессованного снега, а также не давать им прохода. В частности, Давлетов кричал, обращаясь к протестующим: «Держите их, пока Алчинова не выпустят! Бей их». [Артур] Мухаметов и «[Салават] Елкибаев потащили протестующих на прорыв оцепления, проталкивая своими телами сотрудников полиции, пытаясь сбить их с ног. Байгускаров Ильяс вёл за собою группу в сторону сотрудников ОМОНа»
Использование засекреченных свидетелей — очень удобный судебный инструмент для силовиков, когда необходимо заполнить пробелы и пустоты в позиции обвинения недостающими в уголовном деле «доказательствами». Как правило, формальным поводом для засекречивания становится угроза безопасности такого свидетеля или его родных и близких.
Ч. 1 ст. 19 Конституции РФ гласит, что все равны перед законом и судом. При этом государство гарантирует равенство прав и свобод человека и гражданина без какой-либо дискриминации — это провозглашено в ч. 2 ст. 19 Основного Закона. Таким образом, Конституция обязывает государство обеспечивать возможность равноправного судебного разбирательства. Однако, как пишет адвокат Александр Быков в «Адвокатской газете», «в законодательстве существуют пробелы, препятствующие в полной мере реализовать указанный конституционный принцип. Дело в том, что ч. 5 ст. 278 УПК РФ позволяет суду проводить допрос свидетеля по уголовному делу в условиях, исключающих визуальное наблюдение данного лица другими участниками судебного разбирательства. <…> Действующее законодательство допускает, что в качестве засекреченного свидетеля может выступить любое лицо, включая сотрудников правоохранительных органов, в связи с чем сторона защиты зачастую лишена возможности задать такому свидетелю вопросы, направленные в том числе на выяснение его личности, отношения к правоохранительным органам и т.д., поскольку такие вопросы нередко судьями пресекаются. Подобная практика, основанная на ч. 5 ст. 278 УПК, на мой взгляд, изначально ставит сторону защиты в невыгодное — по сравнению со стороной обвинения — положение. При этом ст. 16 и 47 Кодекса обязывают суд обеспечить подсудимому возможность беспрепятственного допроса любого лица, свидетельствующего против него в суде. <…> Частью 6 ст. 278 УПК установлено, что в случае заявления сторонами обоснованного ходатайства о раскрытии подлинных сведений о лице, дающем показания, в связи с необходимостью осуществления защиты подсудимого либо установления каких-либо существенных для рассмотрения уголовного дела обстоятельств суд вправе предоставить сторонам возможность ознакомления с указанными сведениями. В данном случае обоснованность ходатайства защиты о раскрытии подлинных сведений о лице, дающем показания, оценивает непосредственно судья, рассматривающий дело, который вправе (но не обязан) удовлетворять подобные ходатайства. Таким образом, представляется, что ч. 6 ст. 278 Кодекса не ограждает сторону защиты от возможности властного произвола со стороны лиц, принимающих решение по уголовному делу. Практика засекречивания свидетелей, на мой взгляд, нередко противоречит истинным целям правосудия, поскольку ставит сторону защиты в неравное со стороной обвинения положение. Не видя перед собой конкретного свидетеля, не имея возможности наблюдать за его реакцией на заданные вопросы, обладая минимумом информации о нём, стороне защиты крайне затруднительно проводить эффективный допрос такого лица <…> В свою очередь судьи, равно как и присяжные заседатели, лишаются тем самым возможности визуально наблюдать за поведением свидетеля в ходе допроса, в связи с чем сужается их потенциал для полной оценки показаний такого свидетеля на предмет их достоверности, исходя из внутреннего убеждения».
Тем не менее, практика использования «засекреченных свидетелей» часто используется в том числе и при судебном рассмотрении дел политических заключённых. На показаниях таких свидетелей строилась доказательственная база против обвиняемых по делам «Хизб-ут-Тахрир», использовались они в делах против Надежды Савченко, Олега Сенцова, фигурантов дела «Нового Величия» и многих других.
«Просим максимально детально проверить секретных свидетелей, была ли необходимость засекречивать их? — говорилось в обращении общественников на имя прокурора Орска, опубликованном в сообществе «Мой Башкортостан» в VK. — «Мы, многонациональный народ Башкортостана, хотим равноправия в суде сторон защиты и обвинения. В качестве засекреченного свидетеля может выступить любое лицо, включая сотрудников правоохранительных органов, в связи с чем сторона защиты зачастую лишена возможности задать такому свидетелю вопросы, направленные в том числе на выяснение его личности, отношения к правоохранительным органам и т.д., поскольку такие вопросы нередко судьями пресекаются».
На наш взгляд, использование показаний засекреченных свидетелей против фигурантов «Баймакского дела» нарушает как права обвиняемых на защиту и принцип состязательности процесса, так и демонстрирует несостоятельность и слабость доказательственной базы обвинения.
Рассмотрение уголовных дел обвиняемых в судах разных регионов, закрытие процесса для слушателей
Шестой кассационный суд в Самаре по ходатайству представителей прокуратуры принял решение об изменении территориальной подсудности и о направлении дел различных групп обвиняемых в разные федеральные суды общей юрисдикции в пределах территории Шестого судебного кассационного округа. Обосновывая это ходатайство, прокуратура отметила, что «у обвиняемых имеется возможность влиять на ход и результаты судебного разбирательства в Республике Башкортостан, в том числе путём оказания давления на участников судопроизводства в целях искажения показаний и избежания привлечения к уголовной ответственности обвиняемых по данному делу, что подтверждается результатами оперативно-розыскной деятельности ФСБ России». Прокуратура сослалась на то, что «УФСБ России по Республике Башкортостан получена оперативная информация, что у обвиняемых и иных участников уголовного судопроизводства по данному уголовному делу имеется возможность оказать непроцессуальное воздействие на судей Республики Башкортостан, в том числе с использованием средств массовой информации и путём проведения массовых мероприятий с привлечением членов региональных и общественных организаций, иностранных агентов, что поставит под сомнение объективность и беспристрастность судебного разбирательства на территории Республики Башкортостан».
Суд отметил, что оснований подвергать сомнению информацию и выводы оперативных сотрудников УФСБ России по Республике Башкортостан не имеется, и удовлетворил ходатайство прокуратуры.
По общему правилу, уголовное дело рассматривается в суде по месту совершения преступления (ч. 1 ст. 32 УПК РФ). Территориальная подсудность уголовного дела может быть изменена по ходатайству одной из сторон или по инициативе председателя суда, куда поступило дело, например, если имеются обстоятельства, которые могут поставить под сомнение объективность и беспристрастность суда при принятии решения по делу (пп. «в» п. 2 ч. 1 ст. 35 УПК РФ).
Верховный Суд РФ разъяснял, что при разрешении ходатайства об изменении территориальной подсудности суд, «исходя из конкретных обстоятельств обвинения и особенностей объекта преступного посягательства, принимает во внимание, в частности, должностное положение и характер служебных полномочий обвиняемого или потерпевшего, длительность нахождения его в этом статусе и наличие механизмов влияния на общественное мнение и деятельность государственных органов, находящихся на территории юрисдикции суда, которому подсудно уголовное дело» (п. 17 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 27.06.2023 № 22 «О применении судами норм Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, регламентирующих подсудность уголовного дела»).
На наш взгляд, в данном случае основания изменения подсудности являются надуманными и не направлены на объективное и полное рассмотрение дела. По мнению юристов Санкт-Петербургской общественной правозащитной организацией «Гражданский контроль», «в решении об изменении территориальной подсудности судья должен чётко изложить причины своего решения. Если сторона обвинения ссылается, например, на оперативные данные, которые свидетельствуют о том, что подсудимый может оказывать влияние на суд, защита должна иметь возможность ознакомиться с этими данными и оспорить их. Если же у защиты нет доступа к этим сведениям и в решении суда не указаны конкретные причины, по которым суд считает, что подсудимый может повлиять на судей, то такое решение нельзя считать законным и обоснованным».
По мнению адвокатов, суды на территории Башкортостана кажутся власти нежелательными, поскольку власти опасаются повторения событий в Баймаке. Фигурантов судят последовательно, партиями в несколько человек, при этом, по данным защиты обвиняемых, дела тех фигурантов, которых следствие назначило «организаторами массовых беспорядков», уйдут в суд последними.
Проведение процессов в разных городах лишит подсудимых и их защитников возможности допросов свидетелей, изучения доказательств. К примеру, дело сына Сании Узянбаевой, Даниса Узянбаева рассматривали отдельно от матери — в Ленинском районном суде Ижевска в Удмуртии, в то время как процесс в отношении Сании проходил в Промышленном районном суде Оренбурга. При этом Данис Узянбаев в своих показаниях на предварительном следствии говорил о том, что на бросание снега его спровоцировали действия сотрудников полиции в отношении его матери, в лицо которой распылили слезоточивый газ, и очевидно, что её показания в судебном заседании объективно важны для процесса. Таким образом, направление дел в разные суды нарушает и его права, и права многих других подсудимых.
Не выдерживает критики и тот довод прокуратуры, обосновывающий ходатайство об изменении подсудности, что «учитывая развитую транспортную доступность и возможность использования систем видеоконференцсвязи, изменение территориальной подсудности не повлияет на разумные сроки уголовного судопроизводства, будет отвечать интересам и соблюдению прав всех участников уголовного судопроизводства, объективному и независимому рассмотрению уголовного дела». Как отмечалось выше, сотрудники правоохранительных органов, являвшиеся свидетелями по уже рассмотренному делу Илшата Ульябаева, которого судили в Орске, «не пожелали явиться ввиду чрезвычайной удалённости суда от мест их проживания и отсутствия прямого железнодорожного сообщения с Орском». Неявка свидетелей в судебное заседание с подобной мотивацией опровергает доводы ходатайства и нарушила права Ульябаева.
Помимо того, 5 сентября 2024 года стало известно, что судья Ленинского райсуда Ижевска Елена Никотина решила провести процесс в отношении одной из групп обвиняемых, чьи дела направлены в Ижевск, в закрытом режиме. «Это было сделано, так как якобы в материалах дела имеется справка сотрудников УФСБ по РБ, якобы могут быть какие-либо акции протестного характера и к ним могут быть применены меры физического насилия, — заявил Урал Ишбулатов, адвокат Даниса Узянбаева. — Мы считаем, что данное решение суда незаконно, так как в данной справке говорится, что какие-либо акции могут происходить на территории Башкортостана, в связи с чем Шестым кассационным судом было принято решение о направлении данного уголовного дела в Удмуртскую республику, чтобы такие протестные мероприятия не произошли бы».
При этом ст. 123 Конституции РФ гласит: «Разбирательство дел во всех судах открытое. Слушание дела в закрытом заседании допускается в случаях, предусмотренных федеральным законом». Подобный подход полностью согласуется с положениями Европейской конвенции по правам человека. В п. 1 ст. 6 этого документа говорится о праве человека на публичное разбирательство дела независимым и беспристрастным судом. Там же указано, что судебное заседание или его часть могут быть закрыты для публики только когда это «строго необходимо — при особых обстоятельствах, когда гласность нарушала бы интересы правосудия».
В своих решениях Европейский суд полнее раскрывает этот принцип. Например, в деле «Претто и другие против Италии» указано: «Публичный характер судопроизводства, о котором говорится в п. 1. ст. 6, защищает тяжущихся от тайного отправления правосудия вне контроля со стороны общественности; он служит одним из способов обеспечения доверия к судам, как высшим, так и низшим. Сделав отправление правосудия прозрачным, он содействует достижению целей п. 1 ст. 6, а именно справедливости судебного разбирательства, гарантия которого является одним из основополагающих принципов всякого демократического общества».
Ст. 241 УПК РФ РФ ограничивает причины, по которым суд может принять решение о проведении закрытого судебного разбирательства. «Закрытое судебное разбирательство допускается на основании определения или постановления суда в случаях, когда: 1) разбирательство уголовного дела в суде может привести к разглашению государственной или иной охраняемой федеральным законом тайны; 2) рассматриваются уголовные дела о преступлениях, совершённых лицами, не достигшими возраста шестнадцати лет; 3) рассмотрение уголовных дел о преступлениях против половой неприкосновенности <…>; 4) этого требуют интересы обеспечения безопасности участников судебного разбирательства».
При этом «в определении или постановлении суда о проведении закрытого разбирательства должны быть указаны конкретные, фактические обстоятельства, на основании которых суд принял данное решение».
Мы полагаем, что народный сход у суда в Баймаке и его обстоятельства никак не могут иметь отношение к государственной или иной охраняемой законом тайне РФ. Также не подходят к делу иные причины, указанные в ст. 241 УПК РФ. Мы считаем, что стандартная практика последнего времени по механистическому закрытию дел по обвинениям, где так или иначе присутствует политический мотив, не соответствует духу и букве закона, нарушает гарантированный Конституцией РФ принцип открытости и публичности судопроизводства. Такая практика нацелена на отправление правосудия вне контроля со стороны общественности. В «баймакском деле» особо отчётливо видно, как власть пытается снизить общественный резонанс от незаконного уголовного преследования десятков простых людей, позволивших себе проявить гражданскую активность.
Социальное положение обвиняемых. Несоразмерность избранной меры пресечения и возможного наказания реальной общественной опасности содеянного
Как мы уже отмечали, всем задержанным по Баймакскому делу, за исключением одного фигуранта, избрали меру пресечения в виде заключения под стражу. Подавляющее большинство обвиняемых — обладатели строительных профессий, вахтовики, фермеры, скотоводы, деревообработчики, водители. Многие мужчины имеют по несколько детей, являются единственными кормильцами в семье, имеют на иждивении престарелых родителей. После их ареста семьи оказались в тяжелейшем положении, практически без средств к существованию.
«Сейчас ситуация у них в хозяйстве тяжёлая, — рассказывал в начале лета 2024 года житель Хайбуллинского района о братьях-близнецах Иршате и Илшате Ульябаевых, о передовом хозяйстве которых писали местные СМИ. Сейчас один из них уже осуждён, второй — ожидает суда в СИЗО. — Из-за баймакских событий и арестов дела встали. Насколько известно, в хозяйстве уже начали распродавать технику, а пашни сдают в субаренду — некому сеять. И не только семьи братьев остались без кормильцев — у них же около десятка людей работали в хозяйстве, которые теперь остаются без заработка».
Мы считаем, что мера пресечения в виде помещения в СИЗО применена к обвиняемым несоразмерно и в целях устрашения населения Республики Башкортостан. Оставшись на свободе, обвиняемые не стали бы скрываться от следствия и суда, поскольку должны кормить свои семьи и поддерживать хозяйство. Также у них нет никаких возможностей воспрепятствовать предварительному расследованию, каким-то образом влиять на свидетелей, бо́льшую часть которых составляют полицейские.
Как следует из документов по делу, обвиняемым приписывается мотив «политической ненависти к существующему государственному устройству Российской Федерации, и желание дестабилизировать общественно-политическую обстановку в Российской Федерации». Именно эту версию событий в дальнейшем озвучивали чиновники и провластные пропагандисты. Депутат Госдумы от Башкортостана Динар Гильмутдинов назвал участников митингов в Баймаке «предателями Родины и приспешниками западных спецслужб» и заявил, что в Баймаке через «аффилированные Telegram-каналы и прочие каналы связи с территории Украины и Прибалтики действовали спецслужбы иностранных государств». Член комитета Совета Федерации по федеративному устройству и региональной политике Олег Голов, представляющий республику в верхней палате российского парламента, согласился с мнением, что в происходящем в Башкортостане виден западный след. Глава Башкирии Радий Хабиров, комментируя события, заявил: «Группа лиц, часть из которых находится за рубежом, по сути являясь предателями, призывают к отделению Башкортостана от России <…> не надо маскироваться под мирных чабанов, добрых активистов, это на самом деле не так». Прозвучали и обвинения в национализме.
Мы не можем отрицать, что отдельные участники событий подвержены в той или иной степени радикальным националистическим настроениям, однако подобные проблемы должны решаться властями в русле взвешенной социальной и национальной политики, но никак не фабрикацией уголовных дел против десятков простых жителей республики.
Арестованные в массе своей — не политические, гражданские или общественные активисты. Они пришли на народный сход у Баймакского суда для того, чтобы поддержать своего соотечественника, преследование которого вызвало их возмущение. Так, осуждённый Илшат Ульябаев рассказал в суде, что в Баймак поехал «поддержать экоактивиста Фаиля Алсынова», зная о его деятельности в защиту экологии в Зауралье. «Его слова о разрушительном воздействии горнодобывающих предприятий на окружающую среду затронули меня, и я решил его поддержать», — сказал Ульябаев.
Жена ещё одного арестованного, Юнира Хисаметдинова, так описала его мотивацию и свою текущую ситуацию: «Кредит в данный момент не могу взять. У нас и так кредит на машину, дом строим тоже на кредите.
Я в декретном отпуске по уходу за ребенком. Многие, не понимая, начинают давать советы, строго судить: почему Юнир туда [в Баймак] ездил, сидел бы дома, или поехал бы служить [на] СВО <…> Да, Юнир присутствовал там. Потому что он — папа троих несовершеннолетних детей, любит родной край, народ, много путешествовал, рассказывал про природу Башкортостана. Как он мог остаться в стороне? Поэтому прошу, строго не судите, в этой жизни никто не застрахован».
Часть обвиняемых признала свою вину, вероятно, полагая, что в силу этого они смогут получить минимальное наказание. В первое время интересы задержанных представляли адвокаты по назначению. Позднее среди населения РБ были организованы сборы средств на юридическую помощь, для защиты обвиняемых привлечены независимые адвокаты. Признавая свою вину, обвиняемые оговаривались, что не могли предположить, что, придя поддержать Алсынова, совершают что-то незаконное. Это их убеждение основывалось и на том, что полицейские 17 января не делали собравшимся замечаний, не предлагали покинуть территорию возле суда, из чего люди сделали вывод, что сход является разрешённым. Некоторые соглашались, что бросили в сторону наступавших полицейских один или два снежка, другие это категорически отрицали. В любом случае, мы не придаём большое значение признанию обвиняемыми вины на предварительном следствии, поскольку именно в этот период, как правило, силовики применяют к задержанным шантаж, обман и обещания послабления наказания в обмен на сотрудничество, которые, как правило, не исполняются. Нельзя исключить и применение угроз к обвиняемым: многие родственники жаловались на грубое поведение силовиков, пришедших задерживать их близких, и с учётом гибели не менее двоих подозреваемых мы полагаем, что у других задержанных были реальные основания для опасений за свою жизнь, безопасность и здоровье.
Кроме того, определённое давление оказывалось и на родственников арестованных. По словам башкирских активистов, в Башкортостане проводились встречи родственников с членами местного Совета по правам человека, мероприятия свелись к предложению властей родным обвиняемых «воздействовать на своих арестованных родственников, чтобы они признали свою вину». Так, председатель СПЧ Башкортостана Зульфия Гайсина говорила родственникам, что «единственная возможность облегчить положение арестованных — признать им на суде свою вину, раскаяться. И тогда, возможно, будет условный срок или наказание, которое ограничится сроком пребывания в СИЗО. Тогда, мол, их сразу из суда отпустят на свободу».
Некоторые обвиняемые и члены их семей упоминают, что их родственники воюют в Украине, а сами они поддерживали российские вооружённые силы сборами гуманитарной помощи. Другие — подчёркивают, что их арестованные близкие были далеки от любых форм политики, интересуясь лишь семьёй и своим родным краем. Тем не менее, под арест были отправлены практически все задержанные по Баймакскому делу, включая и пожилых, и больных людей. Адвокат Айсура Тулыбаева дважды подавал апелляцию на арест, поскольку у его подзащитного диагностирован язвенный колит, он зависим от гормональных препаратов. «Закрыть в камеру человека, который постоянно живёт под присмотром врачей — это как смертная казнь. Без уколов, без лекарств Айсур не сможет долго держаться», — писали его близкие. В СИЗО была отправлена и шестидесятилетняя учительница Альфинур Рахматуллина, ветеран труда, неоднократно отмечавшаяся за «вклад в народное образование». Telegram-канал «Оперсводки РБ» публиковал видео, на котором, как утверждалось, Рахматуллина на митинге в Баймаке пытается пнуть ногой по щиту силовика, потом уносит щит другого бойца и пытается выручить протестующего, которого бьют дубинками. Канал назвал её «активной участницей и организатором протестных акций, администратором экстремистских чатов в мессенджерах». На наш взгляд, многомесячное содержание пожилой женщины в СИЗО неадекватно ею содеянному даже в том случае, если оно имело место в действительности. Ахмету Якупову, строителю и исполнителю народных песен — 61 год. «Я никогда себя не посчитаю виновным, я политический заключённый», — написал он из СИЗО. В СИЗО оказались и совсем молодые люди. 20-летний Данис Узянбаев за месяц до того, как оказался у Баймакского суда вместе со своей матерью, возвратился со срочной службы в армии. Совершенно очевидно, что содержание в неволе призвано не «исправить» всех этих людей, а устрашить их соотечественников и сограждан показательно жестоким наказанием.
Вероятнее всего, Илшат Ульябаев, признавший свою вину по ст. 318 УК РФ — в применении опасного для жизни насилия к лежащему полицейскому, — подпадает под действие п. 3.3.а «Руководства по определению понятия “политический заключённый”» как лицо, совершившее насильственное правонарушение против личности вне ситуации необходимой обороны или крайней необходимости — мы не можем полностью исключать, что он оговорил себя под давлением, однако в отсутствие убедительных доводов в пользу этого не можем признать его политзаключённым. Тем не менее, мы видим в его деле признаки политического мотива преследования.
Мы также видим признаки политического мотива и незаконности лишения свободы в делах против фигурантов, которым ещё не вынесены приговоры, однако, не обладая подробностями обвинений по ст. 318 УК РФ в их отношении, на данном этапе не имеем возможности признать их политическими заключёнными. Мы продолжаем следить за ходом судебных заседаний в рамках этого дела и дополнять справку новой информацией.
Независимый правозащитный проект «Поддержка политзаключённых. Мемориал», продолжающий работу Программы поддержки политзаключённых Правозащитного центра «Мемориал», согласно международному руководству по определению понятия «политический заключённый», находит, что уголовное преследование обвиняемых по Баймакскому делу является политически мотивированным, направленным на устрашение общества в целом, т. е. упрочение и удержание власти субъектами властных полномочий. Лишение свободы было применено к большинству из них в связи с ненасильственным осуществлением свободы мирных собраний, свободы выражения мнения, при отсутствии состава преступления, в нарушение права на справедливое судебное разбирательство, иных прав и свобод, гарантированных Конституцией России и Международным пактом о гражданских и политических правах. Лишение свободы явно непропорционально и неадекватно) фактическим действиям, в совершении которых они обвиняются.
Независимый правозащитный проект «Поддержка политзаключённых. Мемориал» считает Айтугана Абдуллина, Дениса Икбаева, Мурата Бикбулатова, Ильмира Рыскулова, Айбулата Нигаматова, Айдара Юсупова, Ильняза Махмутова, Закия Ильясова, Валляма Муталлапова, Айтугана Китикова, Шафката Ульмасбаева, Раяна Фаттахова, Фидана Исмагилова, Ильнара Асылгужина, Айгиза Ишмурзина, Рафила Утябаева, Фанура Хажина, Фангиза Шарифгалеева, Айгиза Абсалямова, Раиля Галина, Вадима Кагарманова, Айсура Тулыбаева, Айгиза Уразаева, Халида Ишкуватова, Ильфата Ишмуратова, Закира Кульмухаметова, Даниса Узянбаева, Азата Мирзина, Фатиха Ахметшина, Венера Яубасарова, Вилюра Карачурина, Айтугана Малабаева, Ахата Гибадуллина, Галима Заманова, Ильнура Хажиева, Динара Акбалина, Даяна Валеева, Дима Давлеткильдина, Ильмира Ахатова, Азата Кусарбаева, Айдара Магадеева, Санию Узянбаеву, Азамата Аминева, Айнура Каримова, Вилюра Сагадиева и Альберта Тагирова политическими заключёнными, требует их освобождения из-под стражи и пересмотра их уголовных дел по обвинениям по ч. 1 ст. 318 УК РФ с соблюдением международных стандартов правосудия и норм международных договоров в области прав человека.
В деле уже осуждённого Илшата Ульябаева мы видим признаки политического мотивированного незаконного преследования и требуем пересмотра уголовного дела справедливым судом с соблюдением международных стандартов правосудия.
Мы также видим признаки политической мотивации и незаконности лишения свободы в делах ещё не осуждённых фигурантов и продолжим наблюдать за ходом рассмотрения уголовных дел, оценивая их на предмет возможности признания обвинямых политическими заключёнными.
Также мы требуем прекращения уголовного преследования по ч. 1 и ч. 2 ст. 212 УК РФ всех фигурантов.
Признание людей политзаключёнными либо лицами, в преследовании которых с большой вероятностью присутствуют признаки политической мотивации и серьёзного нарушения закона, не означает ни согласия проекта «Поддержка политзаключённых. Мемориал» с их взглядами и высказываниями, ни одобрения их высказываний или действий.
Включение людей в список лиц, подвергающихся уголовному преследованию, в котором с большой вероятностью присутствуют признаки политической мотивации и серьёзного нарушения закона, не означает их признания политзаключёнными.
Адвокаты:
Адвокат Айтугана Абдуллина — Закиров Тимур Рамилович
Адвокат Буранбая Абушахмина — Халиков Руслан Расимович
Адвокат Минзии Адигамовой — Ильин Сергей Викторович, Кривошеев М. А.
Адвокат Ильнара Асылгужина — Алтыншина Милявша Булатовна
Адвокат Ахатова Ильмира — Файзуллин Азат Ринатович
Адвокаты Закира Ахмедина — Камалтдинова Гульшат Иршатовна, Маннапова Эльвира Назифовна
Адвокат Айрата Ахметова — Хайбуллин Марат Рамильевич
Адвокат Фанура Хажина — Алтыншина Милявша Булатовна
Адвокат Юлая Аюпова — Лаврентьев Михаил Геннадьевич
Адвокат Ильяса Байгускарова — Саниев Радмир Тагирович
Адвокаты Ильяса Байчурина — Захаров Денис Сергеевич, Биктимерова Ляйсан Расиховна
Адвокат Даяна Валеева — Дворский Михаил Павлович
Адвокат Даниса Гайсина — Саитгалин Айрат Альбертович
Адвокат Ахата Гибадуллина — Захарова Елена Михайловна
Адвокат Фидана Исмагилова — Иванов Радим Николаевич
Адвокат Мунира Исянгильдина — Кузнецов Максим Сергеевич
Адвокат Халида Ишкуватова — Байрамгулов Рустам Ахтямович
Адвокаты Ильфата Ишмуратова — Губайдуллин Эрик Амирович, Петров Михаил Владимирович
Адвокаты Айгиза Ишмурзина — Сабирова Гульназ Рифовна, Урманшин Рамиль Рамизович, Исянаманова Ольга Леонидовна
Адвокат Вилюра Карачурина — Лукина Ольга Геннадьевна
Адвокат Айнура Каримова — Лебединцев Всеволод Александрович
Адвокат Закира Кульмухаметова — Альмухаметов Ильдар Ильдусович
Адвокат Айдара Магадеева — Лопухов Егор Викторович
Адвокат Айтугана Малабаева — Махиянов Роберт Рафкатович
Адвокаты Ильназа Махмутова — Карамышев Рустам Маратович, Табачук (Каримова) Жанна Ивановна
Адвокат Азата Мирзина — Хамидуллин Фаниль Ахметович
Адвокат Артура Мухаметова — Латыпов Алмаз Рафитович
Адвокат Альфинур Рахматуллиной — Абъяпаров Раис Равильевич
Адвокаты Ильмира Рыскулова — Кондрашов Михаил Юрьевич, Ягудина Алия Фаритовна
Адвокат Вилюра Сагадиева — Кадыров Аяз Лутфуллович
Адвокат Кабира Сургулова — Фахрединов Ильдар Идрисович
Адвокаты Альберта Тагирова — Куликов Станислав Сергеевич, Шабрина Татьяна Александровна
Адвокат Айсура Тулыбаева — Салихов Эдуард Наилевич
Адвокат Даниса Узянбаева — Ишбулатов Урал Азаматович
Адвокат Сании Узянбаевой — Макшанов Андрей Анатольевич
Адвокат Шафката Ульмасбаева — Дерюжов Андрей Владимирович
Адвокат Илшата Ульябаева — Загитов Ильнур Фирдаусович
Адвокат Айгиза Уразаева — Базуев Сергей Викторович
Адвокат Рафила Утябаева — Путилов Андрей Сергеевич
Адвокат Раяна Фаттахова — Зарипов Владик Рафитович
Адвокат Юнира Хисаметдинова — Литвинов Евгений Евгеньевич
Адвокат Айнура Хусаинова — Гафуров Ренат Рафаилович
Адвокат Сагита Юлмухаметова — Бакиев Рустам Русланович
Адвокат Айсувака Явгастина — Мурзагулов Наиль Фатихович
Адвокат Ахмета Якупова — Усов Максим Владиславович
Адвокаты Венера Яубасарова — Исянаманов Рустам Ильдарович, Мавлютов Д.Т.
Адвокат Кабира Суяргулова — Фахрединов Ильдар Идрисович
Адвокат Дима Давлеткильдина — Яппаров Гарифулла Хабибуллович
Адвокат Раята Давлетбаева — Черкунова Лариса Геннадиевна
Адвокат Галима Заманова — Бурангулов Загир Тагирович
Адвокаты Динара Акбалина — Дригалев Евгений Николаевич, Малахова Ирина Фанавиевна
Адвокат Самата Давлетова — Асылгужин Булат Саматович
Адвокат Умутбая Давлетбердина — Подольский Сергей Викторович
Адвокат Фангиза Шарифгалеева — Юсупов Урал Тигирович
Кроме того, из карточек судебных дел известно, что в процессе над Халидом Ишкуватовым, Ильфатом Ишмуратовым, Закиром Кульмухаметовым принимали участие адвокаты Альмухаметов Ильшат Ильдусович, Гальцева Татьяна Викторовна, Губайдуллин Эрик Амирович.
В процессе над Ильнаром Асылгужиным, Айгизом Ишмурзиным, Рафилом Утябаевым, Фануром Хажиным и Фангизом Шарифгалиевым принимали также участие адвокаты Загребин Александр Анатольевич, Исянаманова Ольга Леонидовна, Урманшин Рамиль Рамизович, Юсупов Урал Тигирович.
В процессе над Данисом Узянбаевым, Азатом Мирзиным, Фатихом Ахметшиным и Венером Яубасаровым, Вилюром Карачуриным и Айтуганом Малабаевым принимали также участие адвокаты Жидкова Е.Н., Ишбулатов И. А., Костанов О. К., Мочагин С. А., Тронин А. В., Хызыров А. И., Шушаков А. В.
В процессе над Айтуганом Абдуллиным, Денисом Икбаевым, Муратом Бикубулатовым, Ильмиром Рыскуловым, Айбулатом Нигматовым принимали также участие адвокаты Андреева Людмила Васильевна, Богатырев Макс Евгеньевич, Гайсина Зульфия Рифовна, Ласкина Елена Вячеславовна, Санжиева Ирина Александровна, Щербакова Елена Геннадьевна.
Как помочь?
Адреса для писем можно найти на страницах отдельных фигурантов на нашем сайте.
Группа помощи фигурантам «Баймакского дела»
На нашем сайте вы можете сделать пожертвование для помощи всем политзаключённым в России
Публикации о деле в СМИ:
Idel.Реалии, Баймакское дело
ОВД.инфо. Протесты в поддержку башкирского активиста Фаиля Алсынова
11 июля 2024 года, Медиазона. 76 узников Баймака. Кто арестован по крупнейшему делу о протестах в Башкортостане
Дата обновления справки: 14.08.2025 г.